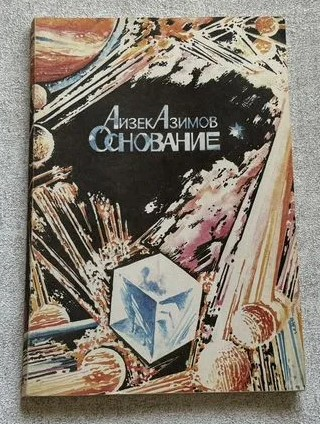"Как уже говорилось, мы изучаем историю для того, чтобы лучше понимать настоящее и предсказывать будущее.
И чем больше я изучаю историю античности, тем лучше понимаю, что современность и античность похожи друг на друга намного сильнее, чем средневековье на них обоих. Что темные века действительно были темными. Что всякие там князья-короли-герцоги это были в сути своей полевые командиры, а не государственные деятели. И что на фоне масштабных экономико-военно-культурно-дипломатических противостояний античности всё это было примерно как разборки банд, крышующих торговые точки.
Впоследствии средневековая история была распиарена, причем даже не историками, а писателями. Они добавили средневековью и глубины и масштаба и харизмы, создали известные культурные символы разных народов, и теперь мы думаем, что средневековье было всего лишь очередным этапом развития Европы.
Но современники тех событий четко знали, что живут они на руинах великой цивилизации, что вокруг сплошная архаика. И что испанский дворянин отличается от французского лишь диалектом – набором примесей варварских языков к латыни, а в остальном он такой же необразованный бандюган.
И, как только экономика отдельных регионов чуть отталкивалась от дна, то сразу начинались попытки восстанавливать достижения прошлого – или в виде символики (чаще) или в виде каких-то социальных технологий. Например, инквизиция была попыткой внедрения принципов римского права в диковатое средневековое правосудие.
Поэтому продолжим…
5. Принцип исторической предопределенности
Когда-то в детстве попалась мне в руки книга Айзека Азимова «Основание». Тогда я еще не знал, что она всемирно известна, для меня это была просто одна из книжек в шкафу у бабушки на даче.
Содержание зацепило уже с первой главы – изложенная там концепция психоистории была крайне привлекательна для подростка, который увлекался и историей, и математикой.
В дальнейшем при чтении книг и статей по истории я много раз обращал внимание на то, что их авторы неявно (без прямых отсылок на Азимова) разделяют концепцию психоистории – полагают исторические события в достаточной степени предопределенными, вытекающими из географии, климата, демографии, имеющихся технологий и т.д.
Долгое время мне это казалось совершенно логичным, однако по мере изучения истории и наблюдения за происходящими сейчас событиями этот самый принцип исторической предопределенности стал всё чаще и чаще ставиться мною под сомнение. Поводом тому послужили 2 наблюдения:
1) Если послушать прогнозы современных аналитиков относительно ближайшего будущего, а лет через 10-20 проверить их, то шансы увидеть верный прогноз ну совсем малы.
Кто не верит – почитайте любые прогнозы, которым 10+ лет. Верными так окажутся лишь общие прогнозы инерционного характера «мировая напряженность будет нарастать».
Например, прогнозы Авантюриста выделяются на общем фоне заметно в лучшую сторону, хотя, объективно говоря, он всего лишь предсказал смену тренда. То есть дал не инерционный прогноз. При этом в конкретных параметрах он промахнулся, но на фоне остальных 99% инерционных прогнозов это само по себе большое достижение.
А если взять диапазон 20+ лет, то там почти все прогнозы попали мимо тазика. Ну и прогнозы вида «Чем всё это закончится?» дают разве что заведомо ангажированные аналитики, чьей работой является формирование общественного мнения, а не изучение реальности.
Как-то жидковато для «неизбежного исторического процесса, ведущего к закономерному результату» …
Причем, даже если прогноз оказывается верным, то при изучении аргументов автора часто выясняется, что он просто угадал – события произошли так, как он описал, но по совсем иным причинам, нежели ему виделось.
Кто-то скажет «ну мы же не видим всей картины», «мировая закулиса скрывает свои планы» и т.д. Однако, если поизучать историю, например 1-й или 2-й Мировой войны, то можно увидеть, что особой конспирологии там не было, вся значимая информация была в открытом доступе – на страницах газет, журналов, на заседаниях парламентов всяких и т.д. А закрытая информация носила характер военной тайны – сокрытия точных сроков/параметров действий, но не направления действий в целом.
То есть, для внимательного современника тех событий не было секретом – кто к чему стремится, и почему. Ведь с трибуны это постоянно произносилось. При том что «мировая закулиса» и тогда и сейчас имела схожую роль и влияние.
Если посмотреть на события последних лет 20-ти, то видно, что и сейчас современные лидеры постоянно озвучивают с трибуны свои намерения. Политологи часто называют это «хитрыми планами», радиоигрой, дезинформацией и т.д., но постфактум часто оказывается, что политик действительно в дальнейшем пытался делать примерно то, что он и говорил, пусть и не всегда успешно.
Получается, что и сейчас идет примерно такой же «неизбежный исторический процесс, ведущий к закономерному результату», что и тогда. Думаю, лет через 50 историки будущего назовут это именно так.
Вот только знать бы еще этот … хмм … «закономерный результат» …
2) Лет 12 назад я увлекся настолкой «Игра престолов» - такой вот варгейм на 6-10 человек, где каждый игрок командует своими войсками, ведет боевые действия, строит дипломатию с соседями и т.д. Вкратце смысл игры в территориальных захватах – побеждает тот, кто первым завоюет 7 замков, а если такого игрока не нашлось, что побеждает тот, у кого будет больше всего замков в последнем (10-м) раунде.
Помимо игромеханической составляющей (управление войсками) эта настолка имеет еще и сильную дипломатическую составляющую. После нее я стал гораздо лучше понимать, почему международная дипломатия выглядит именно так, как она выглядит.
Так вот, будучи наблюдателем игры, я частенько приватно обсуждал с ее участниками сложившуюся позицию, и много раз замечал, что одна и та же позиция может оцениваться игроками совершенно по-разному. Причем, поскольку я не был участником игры, то нельзя заподозрить игроков в том, что они пытались меня дезинформировать. Они действительно так думали.
Например, как может выглядеть публичная дипломатия в общеигровом чате:
- Уважаемые лорды, Грейджой захватил Винтерфелл и движется к 7-ми замкам, предлагаю надавить на него с тыла.
- Да куда он там движется? У Старка боеспособная армия, через раунд-другой он отобьет Винтерфелл обратно. Я бы вообще предпочел играть эту позицию за Старка.
- Угроза 7-ми замков у Грейджоя, конечно, есть, но это займет у него не менее 2-3 раундов, поэтому предлагаю не суетиться раньше времени.
- Парни, у меня тут своя война, выделить войска против Грейджоя я не могу, поэтому без меня, пожалуйста.
- А вы не думаете, что если Ланнистер вдруг ударит в тыл Грейджою, у которого все войска на севере, то он легко захватит Пайк, и тогда нам придется начать останавливать уже Ланнистера?
- Вот-вот, а еще Старк тогда останется без противника и с хорошей армией – и к кому он тогда ломанется?
- Грейджой хорошо сыграл, поэтому пущай выигрывает, вам жалко что-ли?
Причем – все эти фразы могут принадлежать игрокам, которые уже сыграли более сотни партий, которые имеют хорошую статистику побед, то есть все они умеют играть в Престолы.
Что существенно отличает их от типичного главы государства, который играет свою «игру престолов» первый раз, сел на трон или авансом или вообще случайно, а также имеет в целом меньше информации о происходящем за доской.
Также при наблюдениях за партиями я иногда приватно интересовался у игроков в начале последнего раунда – кто, по их мнению, выиграет партию? Ведь закрытой информации и фактора случайности в этой игре мало, ход раунда плюс-минус просчитывается как в шахматах.
Однако, каждый раз мнения существенно расходились – игроки в целом правильно выделяли тех, кто уже не имеет шансов на победу, но вот предсказать победителя у них получалось редко.
Причина в том, что, несмотря на низкий уровень игромеханической случайности, тут имеется высокий уровень неопределенности в дипломатии и в намерениях игроков. То есть, в силу вступают уже не объективные игровые параметры, а субъективные – готовность рисковать, умение угадать планы соседа, а то и просто личные отношения игроков. И часто в 10-м раунде выигрывал не обладатель самой сильной армии/позиции, а тот, кому сознательно позволили (или не помешали) выиграть.
Причем забавно, что на послеигровых разборах частенько эти же игроки выступали с речами вида: «Да там еще 3 раунда назад было понятно, что Баратеон выиграет». Ну-ну…
Поэтому, если в обсуждениях современной политики вы слышите о неизбежной победе кого-то над кем-то, то задумайтесь – настолько ли она неизбежна? И если хотя бы часть больших игроков считает иначе, то, возможно, не просто так…
6. Треугольник сил
Но всё же вернемся к Пуническим войнам. На днях я прочитал шикарную книгу "Несвоевременные и незапланированные войны, которых никто не хотел" от Корнева. Текст платный, но 200 рублей за такой контент имхо совсем не жалко (не реклама).
И вот этот материал хорошо подсветил смутные подозрения, изложенные выше. Далее цитаты автора:
Историки склонны задним числом преувеличивать объективную детерминированность событий. Если в истории произошло что-то значимое и судьбоносное, то это, «конечно же», было предрешено всем ходом предшествующего развития и чуть ли не «волей богов».
Эта аберрация началась еще в древности, когда Полибий, вписав титаническую борьбу между Римом и Карфагеном в контекст телеологии римского движения к мировому господству, выставил это столкновение абсолютно неизбежным и закономерным.
Пунические войны, которые поколениями историков считались всемирно-историческим эталоном «роковой неизбежности военного конфликта», на деле были чем-то вроде бессмысленной пьяной драки в салуне, когда один ковбой случайно заблевал другому шляпу. Если бы не эта досадная случайность, оба ковбоя вполне могли бы пить на брудершафт, а потом дружно бить морду кому-то третьему (что они и делали буквально за пять минут до события).
Даже победоносный исход той или иной войны сам по себе еще не означает, что ее начали не идиоты или предатели, что она была продуманной, своевременной и выгодной для страны, учитывая все связанные с нею потери, разрушения, задержку в развитии и те выгоды, которые от этой войны могли получить третьи силы, нарастив свою мощь в ущерб «победителю». В истории есть много примеров, когда инициатору было бы разумнее отменить или хотя бы отложить «победоносную» войну, перенести ее на более удобное время, чтобы накопить больше сил и привлечь дополнительных союзников.
Первая и Вторая Пунические войны были несвоевременными и невыгодными для обеих сторон и начались из-за ошибок в дипломатии и просчетов в оценке мотивов и планов соперника.
Пунические войны были нужны кому-то третьему, и обе державы Западного Средиземноморья были просто пешками («прокси», как сейчас модно выражаться) в руках у более опытных эллинистических элит Восточного Средиземноморья.
Единственный выгодный и окупающий себя формат войны — это нападение сильного на заведомо слабого, при условии, что у этого слабого нет сильных союзников и он больше склоняется к капитуляции, чем к войне до последнего призывника. Еще один приемлемый формат войны, не столь выгодный, но часто необходимый: превентивная война коалиции против потенциального гегемона, чтобы не позволить ему стать непреоборимо сильным. Война же в формате «дуэль равновеликих противников» всегда убыточна, вредна и разрушительна для обоих участников, и выгодна только для «третьих радующихся», которые сами в войне участия не принимают.
От себя добавлю – если вдруг сейчас Китай и Индия зарубятся по серьезному, с перекидыванием ядерными ракетами, то это будет примерный аналог Пунических войн в наше время.
Вкратце – что там произошло у римлян с карфагенянами? Автор рассказывает сию историю во всех деталях, я же выделю ключевые моменты.
Политический расклад на начало 1-й Пунической был такой – в западном средиземноморье было 3 тяжеловеса – Рим, Карфаген и Сиракузы. Причем первые двое много столетий были союзниками, друг с другом ни разу не воевали, заключали межгосударственные договора, а вот с Сиракузами и те и другие воевали много и часто. И последний раз это было буквально 20 лет назад, когда Сиракузы под командованием Пирра (тот самый, который «пиррова победа») надавали по ушам и римлянам и карфагенянам, захватили всю Сицилию и юг Италии. Потом, правда, потеряли завоеванное, но осадочек остался.
Это карта Сицилии из авторского текста. Левую часть контролировал Карфаген, правую часть – Сиракузы, между ними была «серая зона», а сверху в какой-то момент начали активничать мамертинцы - жители города Мессана, который изначально принадлежал Сиракузам, но вышел из-под их контроля и начал расширять сферу своего влияния.
В ходе короткой военной кампании мамертинцы были разбиты войсками Сиракуз, но, проиграв на поле боя, попробовали отыграться дипломатически и попросили защиты у Карфагена. На что получили согласие, в город прибыл карфагенский гарнизон, и Сиракузы были вынуждены приостановить боевые действия (но мир не заключили).
Через некоторое время мамертинцы поняли, что карфагеняне всерьез впрягаться за них не будут, и без особой задней мысли попросили защиты еще и у Рима – два покровителя же лучше, чем один, тем более что дипломатических трений у этих покровителей вроде как нет, а есть общий враг.
И вот тут образовался типичный для политики «треугольник сил» Рим-Карфаген-Сиракузы, где стали образовываться непрочные ситуативные альянсы.
Первая половина сентября 264 г. — Начало «странной войны», когда Ганнон и Гиерон, союзники на словах, попытались подставить друг друга под римские мечи, чтобы остаться в стороне «третьим радующимся». Сначала римляне атаковали Гиерона и нанесли ему умеренное поражение (близко к ничьей). Однако Ганнон не вмешался в сражение, предоставив римлянам и сиракузянам возможность взаимно ослаблять друг друга. Гиерон, разгадав этот «хитрый план», счел мудрым умыть руки и отступить на свою территорию, оставив карфагенян один на один с римлянами.
В этот момент еще не поздно было остановиться и не доводить дело до большой войны, но в дело вступил второй типичный фактор политики – непонимание планов и мотивов противника.
А именно – римляне воспринимали эту войну как превентивную, направленную не на территориальные захваты, а на сдерживание Сиракуз, которые уже неоднократно посягали на южную Италию, и по ряду признаков собирались сделать это снова.
Попытка «сделать Сиракузы снова великими» и запустила процесс, приведший к новой большой войне на Западе.
То есть, римляне рассматривали Мессану как своего рода «лежачего полицейского», без захвата которого никакая экспансия в Италию не будет возможна. Такая вот прокси-война малыми силами на чужой территории. При этом римляне не собирались ни ссориться с Карфагеном, ни тем более воевать с ним, а и всего лишь попросили его отойти в сторонку и не мешать им бить сиракузцев.
Карфаген же полагал Сицилию своей сферой влияния, поэтому тоже попросил римлян уйти по-хорошему, а при отказе предположил, что те пытаются завоевать себе часть Сицилии, и тем самым угрожают сицилийским владениям Карфагена. Поэтому войну не начинал, но на мирные переговоры тоже не шел, поддерживал дипломатическое напряжение, пытаясь выяснить – что же на самом деле римлянам нужно?
Римляне при виде непонятной позиции Карфагена решили, что тот действует заодно с Сиракузами, записали его себе во враги, начали боевые действия против собственно карфагенян, и тем самым подтвердили опасения последних.
В исторических трудах дипломатические подробности не сохранились, но подозреваю, что дело не обошлось без интенсивных нашептываний «заинтересованными доброжелателями» именно таких точек зрения и римлянам и карфагенянам.
В «Игре престолов» такое происходит сплошь и рядом – если один из союзников делает какое-то двусмысленное действие, то ко второму в личку тут же слетаются вороны: «Смотри, он пытается предать тебя». И если игрок верит им хотя бы частично и начинает осторожничать, то вороны летят уже в личку ко второму: «Смотри, он тебе не доверяет и готовит разворот в твою сторону». В итоге даже прочный союз может развалиться буквально на ровном месте.
Также, в политике важен фактор личности. Ведь интересы государств реализуют конкретные люди, у которых могут быть свои собственные интересы. И иногда эти интересы входят в противоречие друг с другом.
Конкретно тут, возможно, сыграл фактор личности римского полководца Аппия Клавдия Каудекса, который, видимо, был бравым гусаром, а не мудрым стратегом, и потому не собирался прийти, поговорить и уйти, он хотел именно что повоевать. Скорее всего, он рассчитывал на триумф, который давали лишь за военные победы, а не за болтовню. То есть, он искал повод для драки, что в сложившейся напряженной ситуации было не очень сложно.
Так вот дипломатическое недоразумение, которое могло быть преодолено опытным переговорщиком за несколько дней, в итоге привело к тяжелейшей 20-летней войне.
Была ли здесь какая-то историческая предопределенность? На взгляд автора книги – нет. На мой взгляд тоже.
Такой же разбор автор сделал и для 2-й Пунической войны, пересказывать не буду, но вывод там схожий.
Какое отношение всё это имеет к современности?
Взять, например, войну в Сирии. По состоянию на 2015-й год сирийская армия пусть и с трудом, но сдерживала натиск всевозможных бармалеев. Я помню заявления наших руководителей, у них тогда сквозила уверенность: «Вот сейчас мы внесем перелом в ход войны одним авиаполком». Логика была простая – если сирийцы и так воюют вничью, то достаточно немного нажать, и бармалеи посыпятся.
Но реальность оказалась иной – с появлением русской авиации в Сирии остальные игроки засуетились и начали расширять финансирование и для ИГИЛ, и для других террористических формирований. Поэтому пришлось вводить войска, проводить наземную операцию, договариваться с Ираном, пререкаться с турками, арабами, израильтянами и т.д.
То есть, война, которая изначально виделась быстрой и легкой, оказалась не быстрой и не легкой. Да и уверенной победы тоже не получилось – установилось шаткое равновесие, которое к тому же спустя несколько лет разрушилось само по себе.
Всё это как раз по причине «многоугольника сил» - сирийцы держались не только потому, что такие молодцы, но еще и потому, что однозначная победа какой-либо из оппозиций тоже не входила в планы кукловодов. Поэтому помощь одной стороне привела всего лишь к наращиванию помощи другой стороне, и равновесие сохранилось.
И, кстати, видимо, по этой же причине после бегства Башара Асада новая власть не пытается любой ценой выпихнуть российские базы из Сирии. Ведь чем больше углов в многоугольнике, тем больше пространства для дипломатии. Не факт, что базы в итоге останутся, стороны могут не сойтись в цене, но, судя по новостям, там идет вполне конструктивная дипломатия.
Похоже, что сей урок наше руководство усвоило, поэтому в начале СВО и риторика была иной, и действия иными. Ведь там тоже был свой треугольник сил: Россия-США-«глобальный юг».
Я читал в то время все новости политики, и быстро заметил, что «глобальный юг» занял тогда выжидательную позицию. Пока российские войска маршировали по Украине, а американская пресса паниковала «Русские возьмут Киев за 3 дня!», остальные или отмалчивались или делали общие заявления без какой-то конкретики. Но, когда стало понятно, что СВО затягивается, то риторика третьих сил стала гораздо более комплиментарной для России.
В свете изложенного выше понятно почему – если бы Россия действительно взяла Киев за 3 дня, то в постсоветских странах случилась бы истерика «Мы будем следующими!», да и остальные соседи крепко задумались бы. И если условный Тегеран взять за 3 дня непросто, то какой-нибудь Хельсинки или Стамбул намного проще, чем даже Киев.
Это мы в России понимаем, что такого не произошло бы, ибо нахрен не надо, но у соседей такой уверенности не было бы. А ведь хороший политик всегда немного параноик.
То есть, даже если бы соседи не стали открыто ссориться, то они как минимум не торопились бы помогать преодолевать санкции - потоки серого импорта были бы заметно более скудными.
Не возьмусь судить о том, лучше был бы такой расклад или хуже, но он в любом случае тоже был бы непростым. Как минимум обеспечить международную изоляцию России в таких условиях было бы намного проще.
Эту мысль желательно осознать каждому, кто пытается советовать Путину сделать какие-то действия на международной арене – круги по воде там расходятся широко и далеко"