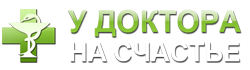dok34.ru
Moderator
Шаталову стало немножко жутко, и он обозвал Будду селёдкой. Потом прилёг на диван и сам не заметил, как задремал.
— Ты болен. И уже очень поздно, я задержалась, — сказала Ольга, растормошив его. — Я тебя уложу здесь же на диване. Но сперва поставлю тебе горчичники. И ты будешь их у меня держать как миленький, хотя мужчины терпеть не могут горчицу, когда она попадает к ним на спину, а не на язык…
— Давай, — сонно пробурчал Шаталов. Ему совсем не хотелось отнекиваться и по холоду ехать домой. — Давай, мажь меня горчицей, хотя ты и глупая совсем женщина, потому что упустила Маньку. Правда, ты теперь стала как-то лучше — добрее и симпатичнее.
— Я тебе покажу свою доброту! — сказала Ольга. Горчичники оказались свирепыми, а Ольга ходила вокруг и следила за Шаталовым, чтобы он не отрывал спину от дивана. Она включила приёмник и музыкой заглушала его стоны и жалобы.
— Лежи, голубчик, лежи, герой, лежи, морской лев, — говорила она монотонно и давала Шаталову курить только из своих рук. Потом смазала его спину вазелином, и он уснул, а проснулся, когда позднее утро светило в окно.
Комната была пуста. Рядом с диваном, на стуле стоял будильник и звонил. Под будильником лежала записка, а рядом — деньги.
Ольга писала: “Ты ужасно храпишь. Билет на самолёт до Хабаровска будет оставлен для тебя прямо в кассе аэропорта. (Вот что значит улыбка красивой женщины!) Отправление в 13.40. Ты успеешь съездить за зубной щёткой и др. манатками домой. Деньги вернёшь, если сам вернёшься от этого зверя живым. А ему скажи, что одно из лучших воспоминаний Ольги за всю её паршивую жизнь — это то, как темнели у Мани глаза от нежности к ней. И Ольга будет помнить об этом всегда.
Я ушла учить детишек географии. Запри комнату и ключ положи у дверей в чёрную ботину”.
Шаталов не стал ездить домой. Зубную щётку можно купить в любом киоске. А больше ему ничего не было нужно.
Он ещё повалялся на диване, прислушиваясь к боли в костях; тщательно вгляделся в мелкий, уверенный почерк Ольги и подумал, что, вероятно, не очень легко школьной учительнице в один вечер собрать две тысячи рублей. У неё есть друзья, если она смогла это… Да, наверное, есть. Но позови сейчас Манька, и Ольга, пожалуй, откликнется на зов… А может, и нет. Чёрт их, женщин, разберёт. А записку следует доставить Мане в целости и сохранности… Оказывается, у этого типа от нежности умеют темнеть глаза.
Настроение было какое-то непонятное, неустойчивое, но в душе оттаяло. Той пустоты внутри, с которой Шаталов шагал от Рыбного порта к автобусу, той беспросветности теперь не было.
— Ты болен. И уже очень поздно, я задержалась, — сказала Ольга, растормошив его. — Я тебя уложу здесь же на диване. Но сперва поставлю тебе горчичники. И ты будешь их у меня держать как миленький, хотя мужчины терпеть не могут горчицу, когда она попадает к ним на спину, а не на язык…
— Давай, — сонно пробурчал Шаталов. Ему совсем не хотелось отнекиваться и по холоду ехать домой. — Давай, мажь меня горчицей, хотя ты и глупая совсем женщина, потому что упустила Маньку. Правда, ты теперь стала как-то лучше — добрее и симпатичнее.
— Я тебе покажу свою доброту! — сказала Ольга. Горчичники оказались свирепыми, а Ольга ходила вокруг и следила за Шаталовым, чтобы он не отрывал спину от дивана. Она включила приёмник и музыкой заглушала его стоны и жалобы.
— Лежи, голубчик, лежи, герой, лежи, морской лев, — говорила она монотонно и давала Шаталову курить только из своих рук. Потом смазала его спину вазелином, и он уснул, а проснулся, когда позднее утро светило в окно.
Комната была пуста. Рядом с диваном, на стуле стоял будильник и звонил. Под будильником лежала записка, а рядом — деньги.
Ольга писала: “Ты ужасно храпишь. Билет на самолёт до Хабаровска будет оставлен для тебя прямо в кассе аэропорта. (Вот что значит улыбка красивой женщины!) Отправление в 13.40. Ты успеешь съездить за зубной щёткой и др. манатками домой. Деньги вернёшь, если сам вернёшься от этого зверя живым. А ему скажи, что одно из лучших воспоминаний Ольги за всю её паршивую жизнь — это то, как темнели у Мани глаза от нежности к ней. И Ольга будет помнить об этом всегда.
Я ушла учить детишек географии. Запри комнату и ключ положи у дверей в чёрную ботину”.
Шаталов не стал ездить домой. Зубную щётку можно купить в любом киоске. А больше ему ничего не было нужно.
Он ещё повалялся на диване, прислушиваясь к боли в костях; тщательно вгляделся в мелкий, уверенный почерк Ольги и подумал, что, вероятно, не очень легко школьной учительнице в один вечер собрать две тысячи рублей. У неё есть друзья, если она смогла это… Да, наверное, есть. Но позови сейчас Манька, и Ольга, пожалуй, откликнется на зов… А может, и нет. Чёрт их, женщин, разберёт. А записку следует доставить Мане в целости и сохранности… Оказывается, у этого типа от нежности умеют темнеть глаза.
Настроение было какое-то непонятное, неустойчивое, но в душе оттаяло. Той пустоты внутри, с которой Шаталов шагал от Рыбного порта к автобусу, той беспросветности теперь не было.