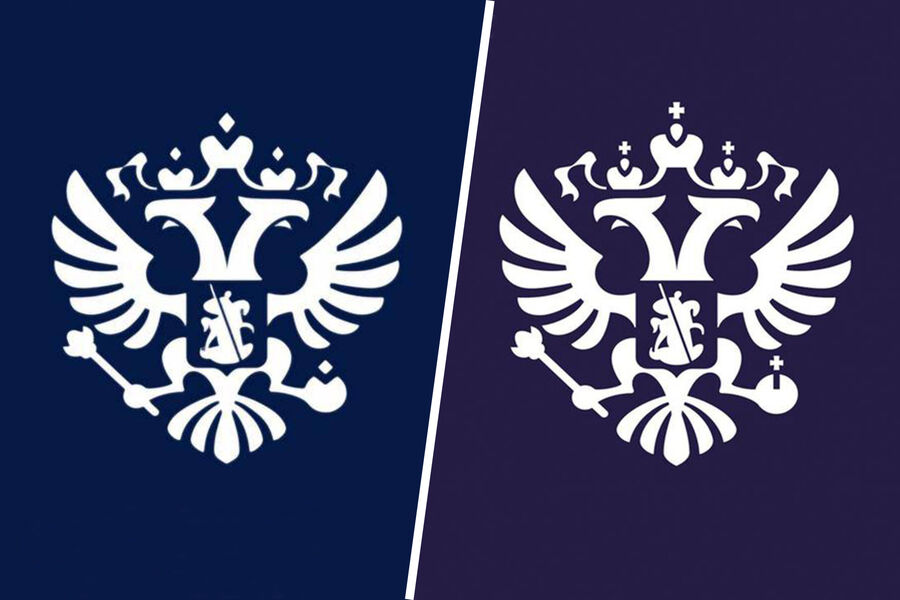dok34.ru
Moderator
"В живой природе горилла ударом кулака способна убить наповал годовалого мамонта (проводились эксперименты). Не занимаясь физзарядкой, не будучи записана ни в какие спортклубы, поедая даже не мышей – за ними гоняться надо – а простых доступных вошей с тела коллеги, сидящей у основания пальмы, горилла развивает чудовищную физическую силу, накапливает невероятную мышечную массу. Если даже гориллу-середнячка, занимающую в стаде социальную роль валета, - ну, типа не то и не это - побрить и сфотографировать, мировое движение бодибилдеров можно закрывать. У них просто шансов нету, ни единого, хоть со спортпитом, хоть с машиной Смита, хоть с обоими. И это валет! Чего уже говорить о вожаке стаи… Он пару-тройку небольших львов может растерзать при благоприятном раскладе. А человек и с большой собакой не справится, не говоря уже об отключении водопровода.
Или лестницы. Опять же! Часто, в произведениях деятелей Просвещения, таких, как Жан (Жак? – авт.) Руссо, Вольтер, Бомарше – хм, сплошные французы, это отчего так? – можно встретить упоминание лестницы. В природе, говорят они, нет лестниц. Но человеческий разум, воспаривший над костной материей, изобрел лестницы, и теперь подъем на второй этаж не составляет труда.
Но ведь это с одной стороны. С другой стороны, вставшая на две ноги и изобретшая лестницу обезьяна уже через три поколения превратилась в рахитозную дохлятину суицидального поведения. Которую даже мелкий разбушевавшийся кот может привести в постыдное бегство. Если сегодня перед вами пышущий здоровьем молодой человек подтянет на перекладине вес своего тела одной рукой, путевка на областные соревнования ему обеспечена. Но ведь самая распоследняя обезьяна это делает, не задумываясь, не ставя себе это в заслугу, не получая за это почетные грамоты или приводы в милицию, в зависимости от профиля деятельности.
Или вот часто говорят. Что вы прете против прогресса, отбери у вас сейчас телефон, вы зарадовались бы? Как бы вы жили без навигатора?
Но ведь, елки, жили же. Даже на моей памяти. И общались, и оказывали друг другу знаки внимания, реальные, в реал тайм, как это не покажется сейчас странным. На природу ходили, не боялись медведей. Жили. И до нас люди жили. Моя бабушка была не менее жизнерадостным человеком, чем я. Гораздо более жизнерадостным, на самом деле. До 60-ти лет не зная, что такое магнитофон.
Сейчас будет ключевой момент данной статьи, прогрессорам приготовиться напрягать свои извилины, выйдя за узкие рамки чашки Петри. Кстати, он еще Древним Египтом занимался, этот Петри, вы в курсе? Обмерил там все.
Сейчас я буду опровергать главный тезис прогрессизма – что без прогресса моя жизнь была бы чудовищным адом, а так она становится все лучше и лучше.
Но, чтобы не отвертелись, я пойду по пути не Сократа, который всегда стоял за синтез – поэтому Марка Аврелия и назвали стоиком, - а по пути Аристотеля, зубодробительная скукота произведений которого стоит бесполезности их мессиджа. Итак, по пунктам:
Итак.
С очевидностью, данные пункты опровергают друг дружку. Ну это как взять мороженое, и сделать его приятнее и слаще, еще приятнее и слаще, бесконечно приятнее и слаще. Вырвет же на вполне конечном отрезке времени.
Более того! Обычно рассуждение такое – вот взять тебя сейчас, и кинуть в 14-й век. Когда не было ни телефонов, ни других приспособлений, ни зеленки, ни современной медицины, и у людей вместо ожирения, рака и какого-то там сумеречного склероза в 70 – чума, черная оспа и посажение на кол, так что и до 40 не доживешь.
Казалось бы, неопровержимый аргумент. Но! Это вообще не аргумент. Поясняю.
Зачем смотреть в прошлое? Как прогрессисты, давайте посмотрим в будующее!
Исходя из пункта два, через тысячу лет прогресс дойдет до черти знает куда. И люди тогда будут смотреть на вас точно так же, как вы сейчас смотрите на людей, живших сколько-то там лет назад. Они тоже не смогут понять, как можно было жить в той примитивной мучительной клоаке, в которой мы с вами сейчас живем. Но ведь живем же. Ну так и раньше люди жили.
А еще через 2000 лет вообще запретят смотреть, как люди жили за тысячу лет до этого (через 1000 после нас), поскольку это будет повреждать нежные нервы современников.
Что же мы имеем? Мы имеем людей, которые ужасаются, как можно было жить 1000 лет назад, при этом живут себе сейчас как ни в чем ни бывало, а через тысячу лет опять будут жить себе люди, ужасающиеся, как люди жили 1000 лет назад.
Если это выразить в математической формуле, то прогресс, находясь в обеих сторонах уравнения, сокращается, и выходит, что человек живет в том, в чем живет, а остальное – пустопорожняя тупорылая брехня.
Вывод такой, что можно жить в любое время, главное, быть человеком (примечание в верхней строке). Остальное приложится.
Примечание в верхней строке говорят, так жил Баранкин.
Комментарий автора:
В данной статье автор еще не говорит о вреде разума, влекомом забивающимся в бесхозную душу идеям. Это тема отдельной естественно-научной диссертации."
...тема многих печалей от многой мудрости и пр🙂
Или лестницы. Опять же! Часто, в произведениях деятелей Просвещения, таких, как Жан (Жак? – авт.) Руссо, Вольтер, Бомарше – хм, сплошные французы, это отчего так? – можно встретить упоминание лестницы. В природе, говорят они, нет лестниц. Но человеческий разум, воспаривший над костной материей, изобрел лестницы, и теперь подъем на второй этаж не составляет труда.
Но ведь это с одной стороны. С другой стороны, вставшая на две ноги и изобретшая лестницу обезьяна уже через три поколения превратилась в рахитозную дохлятину суицидального поведения. Которую даже мелкий разбушевавшийся кот может привести в постыдное бегство. Если сегодня перед вами пышущий здоровьем молодой человек подтянет на перекладине вес своего тела одной рукой, путевка на областные соревнования ему обеспечена. Но ведь самая распоследняя обезьяна это делает, не задумываясь, не ставя себе это в заслугу, не получая за это почетные грамоты или приводы в милицию, в зависимости от профиля деятельности.
Или вот часто говорят. Что вы прете против прогресса, отбери у вас сейчас телефон, вы зарадовались бы? Как бы вы жили без навигатора?
Но ведь, елки, жили же. Даже на моей памяти. И общались, и оказывали друг другу знаки внимания, реальные, в реал тайм, как это не покажется сейчас странным. На природу ходили, не боялись медведей. Жили. И до нас люди жили. Моя бабушка была не менее жизнерадостным человеком, чем я. Гораздо более жизнерадостным, на самом деле. До 60-ти лет не зная, что такое магнитофон.
Сейчас будет ключевой момент данной статьи, прогрессорам приготовиться напрягать свои извилины, выйдя за узкие рамки чашки Петри. Кстати, он еще Древним Египтом занимался, этот Петри, вы в курсе? Обмерил там все.
Сейчас я буду опровергать главный тезис прогрессизма – что без прогресса моя жизнь была бы чудовищным адом, а так она становится все лучше и лучше.
Но, чтобы не отвертелись, я пойду по пути не Сократа, который всегда стоял за синтез – поэтому Марка Аврелия и назвали стоиком, - а по пути Аристотеля, зубодробительная скукота произведений которого стоит бесполезности их мессиджа. Итак, по пунктам:
- Прогресс есть процесс приобретения знаний человечеством, имеющий поступательных характер и последовательно улучшающий жизнь людей.
- Конца этому не видно, ибо познание с практической точки зрения бесконечно. В любом случае, достигнутое на сегодня, будет улучшено завтра, и прогресс точно не остановится послезавтра.
Итак.
С очевидностью, данные пункты опровергают друг дружку. Ну это как взять мороженое, и сделать его приятнее и слаще, еще приятнее и слаще, бесконечно приятнее и слаще. Вырвет же на вполне конечном отрезке времени.
Более того! Обычно рассуждение такое – вот взять тебя сейчас, и кинуть в 14-й век. Когда не было ни телефонов, ни других приспособлений, ни зеленки, ни современной медицины, и у людей вместо ожирения, рака и какого-то там сумеречного склероза в 70 – чума, черная оспа и посажение на кол, так что и до 40 не доживешь.
Казалось бы, неопровержимый аргумент. Но! Это вообще не аргумент. Поясняю.
Зачем смотреть в прошлое? Как прогрессисты, давайте посмотрим в будующее!
Исходя из пункта два, через тысячу лет прогресс дойдет до черти знает куда. И люди тогда будут смотреть на вас точно так же, как вы сейчас смотрите на людей, живших сколько-то там лет назад. Они тоже не смогут понять, как можно было жить в той примитивной мучительной клоаке, в которой мы с вами сейчас живем. Но ведь живем же. Ну так и раньше люди жили.
А еще через 2000 лет вообще запретят смотреть, как люди жили за тысячу лет до этого (через 1000 после нас), поскольку это будет повреждать нежные нервы современников.
Что же мы имеем? Мы имеем людей, которые ужасаются, как можно было жить 1000 лет назад, при этом живут себе сейчас как ни в чем ни бывало, а через тысячу лет опять будут жить себе люди, ужасающиеся, как люди жили 1000 лет назад.
Если это выразить в математической формуле, то прогресс, находясь в обеих сторонах уравнения, сокращается, и выходит, что человек живет в том, в чем живет, а остальное – пустопорожняя тупорылая брехня.
Вывод такой, что можно жить в любое время, главное, быть человеком (примечание в верхней строке). Остальное приложится.
Примечание в верхней строке говорят, так жил Баранкин.
Комментарий автора:
В данной статье автор еще не говорит о вреде разума, влекомом забивающимся в бесхозную душу идеям. Это тема отдельной естественно-научной диссертации."
...тема многих печалей от многой мудрости и пр🙂