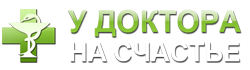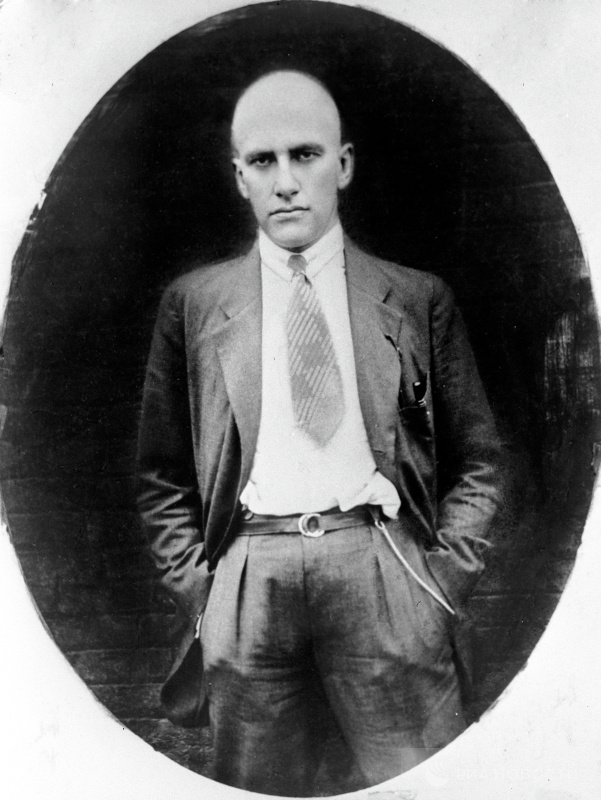"Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами.Самое интересное-шизоидами. Самое доброе-депрессивными. Невозможное- психопатами. Здоровые не вносят вклад в историю. П.Б. Ганнушкин Екатерина Потапова
«Облако в штанах»:
анатомия апокалипсиса в четырех актах
1. ПРОЛОГ: колыбель для анфант террибля

Зима 1914 года. Одесский порт.
Ветер с моря пахнет гнилыми апельсинами и порохом.
Футуристы — стая прокаженных арлекинов, разносящих заразу нового искусства.
Маяковский, этот двухметровый инфант с лицом каменного идола,
впивается глазами в Марию Денисову —
художницу, что лепит бюсты, не подозревая,
что через месяц станет гипсовым слепком в его личной трагедии.
Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Это не влюбленность. Это —
нарциссическая язва,
когда поэт влюблен не в женщину,
а в свое искаженное отражение в ее зрачках-зеркалах.
Ее отказ — хирургический надрез,
из которого хлынет 600 строк гноя и желчи,
упакованных в четыре саркофага частей.
«Чувствую мастерство», — пишет он.
«Могу овладеть темой».
Но тема, как спрут, уже впилась щупальцами в его мозг.
Куоккала. Лето 1915-го.
Маяковский на даче у Репина
Дача Репина превращается в
психиатрическую лечебницу,
где один пациент ставит диагноз целой эпохе.
Первое название —
«Тринадцатый апостол» —
Иуда среди учеников. Лишний. Вечный изгой.
Цензура вымарывает — остается
«Облако в штанах»:
Небеса, закованные в пошлые подтяжки мещанского быта.
2. АКТ ПЕРВЫЙ: ИНКВИЗИЦИЯ НАД ТЕКСТОМ
1915 год. Поэма рождается в
конвульсиях:
—
Февраль: пролог и 4-я часть в
«Стрельце» — кастрированные, как евнухи.
—
Август: 2-я и 3-я части в статье
«О разных Маяковских» —
будто труп, разрезанный на куски и разбросанный по морозилкам разных журналов.
Сентябрь. Осип Брик выпускает первое издание —
каждая страница
кричит кровавыми чернилами там,
где цензорский нож оставил рубцы.
1916 год.
«Парус» переиздает —
те же шрамы. Те же
фантомные боли в ампутированных строках.
Полночь, с ножом мечась,
догнала,
зарезала, —
вон его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.
В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.
1917-й. Февральская революция.
«Новый сатирикон» печатает вырезанное под заголовком
«Восстанавливаю» —
словно патологоанатом, собирающий расчлененку в единый труп.
1918 год. Полный текст. Издательство
«АСИС».
Теперь это не поэма —
ритуальное самоубийство на бумаге.
.
Цензура — это
изнасилование текста,
где государство играет роль садиста,
а поэт — мазохиста, получающего удовольствие от боли.
Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!
3. АКТ ВТОРОЙ: ЧЕТЫРЕ СТАНЦИИ НА ПУТИ КО ГРОБУ
Маяковский называет это
«тетраптихом» —
иконостас для самоубийц.
Станция 1. «Долой вашу любовь!»
Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».
Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.
Денисова здесь —
гипсовый идол, банка с дохлыми пауками.
Фрейд-Юнгу:
Это не женщина — это
проекция материнской травмы,
где Россия-мать недодала тепла,
и теперь сын мстит всем женщинам.
Станция 2. «Долой ваше искусство!»
А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Северянин + Бисмарк +
«туши лабазников» =
шизофренический бред,
где логика разорвана в клочья.
Юнг-Фрейду:
Это
словесная шизофрения —
когда сознание не выдерживает давления реальности
и рвет все связи между образами.
Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боен, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?
И чувствую —
«я»
для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Станция 3. «Долой ваш строй!»
Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!
Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!
Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Революция — не политика. Это
сексуальный акт с насилием.
Фрейд бы тут, ни секунды не сомневаясь, сказал бы:
-Это
выплеск Танатоса,
инстинкта смерти, маскирующегося под борьбу за справедливость.
Станция 4. «Долой вашу религию!»
Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:
— Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, —
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.
Хочешь?
Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
«Я крикнул: „Боже!“
Лицо обернулось в окне.
Это был просто гримасничающий старик».
Фрейд-Юнгу:
Это
крах Эдипова комплекса —
когда сын (поэт) понимает,
что Отец-Бог — всего лишь жалкий старик.
4. АКТ ТРЕТИЙ: МЕТАФОРЫ КАК СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ
Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Ксения Муратова:
«Пожар сердца», который тушат пожарные —
это не метафора. Это галлюцинация,
где внутренняя боль становится осязаемой.
Сергей Бавин:
Соединять Бисмарка, Северянина и мясные туши —
это не поэтический прием. Это клиническая картина распада сознания.
Александр Михайлов:
Богохульство — не поза. Это предсмертный крик души,
когда вера превращается в гримасу.
5. АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ: ПОСМЕРТНЫЙ ДИАГНОЗ
Может быть, нарочно я
в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.
Пациент: Лирический герой.
Диагноз:
—
Мания величия (
«тринадцатый апостол»)
—
Паранойя (
«В дряхлую спину хохочут и ржут канделябры
»)
—
Садомазохизм (
«растопчу свою душу окровавленную»)
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.
И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.
Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.
вам я душу вытащу,
растопчу, чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.
Лечение:
—
Творчество как способ аутодеструкции
—
Революция как затянувшееся самоубийство
Общество-труп:
—
Импотенция духа
—
Творческий склероз
Виктор Франкл:
Весь текст — это
дневник сумасшедшего,
где любовь, смерть, искусство и революция —
просто разные названия одного и того же кошмара.
ЭПИЛОГ: ТЕКСТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕЖИЛ СВОЕГО АВТОРА
1915-1930. От
«Облака» до пистолета.
Поэма стала:
—
Инструкцией по убийству старого мира
—
Пророчеством о собственной гибели
—
Эпитафией целой цивилизации
«Облако в штанах» — это не текст. Это:
—
окровавленный кулак, застывший в ударе
—
разорванная аорта, из которой хлещет XX век
—
динамит, заложенный под фундамент истории
POST SCRIPTUM
Все, что вырезала цензура, — сбылось.
Все, что восстановил Маяковский, — стало его
надгробием.
Теперь этот текст —
зеркало,
в котором Россия видит свое лицо.
Избитое.
Обезумевшее.
Бессмертное.
Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —
«любящие Маяковского!»—
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.
Мария, ближе!
В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.
Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».
При написании статьи ни один поэт не пострадал"
...не моё🙂