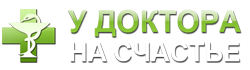Начну с поучительного эдрода, который рассказал знаменитый американский кардиолог Бернард Лаун. В отделение неотложной кардиологии, которым он руководил, поступил больной после четвертого обширного инфаркта миокарда в крайне тяжелом состоянии: ведь у него почти не осталось жизнеспособной мышцы сердца. Когда Лаун вошел в отделение, там работа буквально кипела, все молодые врачи спешно готовили пациента к коронарографии и последующей операции шунтирования. Лаун осмотрел больного, понял, что никаких шансов на спасение нет, и что поэтому не следует подвергать больного дополнительным мучениям перед неизбежной и близкой смертью. Он распорядился прекратить подготовку к операции. В отделении воцарилась непривычная и неловкая тишина. Больной прожил еще всего два часа, но за это время ни один из врачей даже не подумал подойти к пациенту. Эти молодые энергичные ребята чуть ли не наизусть знали тысячастраничные учебники по кардиологии, они запросто самостоятельно делали коронарную ангиографию, они умели без помощи старших коллег подавить опасную аритмию или «завести» остановившееся сердце, короче, они уже были без пяти минут дипломированными кардиологами высочайшей квалификации, но они не знали, что делать у постели умирающего человека!
Молодые люди поступают в медицинские институты, воодушевленные благородной целью – бороться с болезнями и спасать пациентов от смерти. Получив врачебный диплом, они с энтузиазмом приступают к делу. Каждую неудачу в этой борьбе они рассматривают как личное поражение, и это горькое чувство заставляет их совершенствовать свое умение и расширять свои познания, чтобы в будущем иметь больше побед и меньше поражений. Однако если их наставники и толстые учебники много говорят о том, как отвести от больного УГРОЗУ СМЕРТИ, то они ничего или почти ничего не сообщают о том, что делать, если СМЕРТЬ НЕИЗБЕЖНА И БЛИЗКА. В этом случае мы присутствуем перед картиной неминуемого завершения жизни. Здесь вся наша ультрасовременная доказательная и даже вся будущая медицина бессильны, потому что такая смерть столь же нормальна, как и сама жизнь.
В этих обстоятельствах от врача требуются совсем другие знания и навыки, чем при лечении болезней. К сожалению, будущих врачей не знакомят даже с этими азбучными истинами. В результате врач, оказавшись перед лицом смерти, пребывает в постыдной растерянности. Не имея надлежащего руководства, он выбирает одну из двух тактик. Либо он совсем покидает умирающего, оставляя его на попечение медицинских сестер и родственников, либо он пытается считать умирание просто еще одной болезнью, которую полагается лечить точно так же, как это они делают при встрече с другими болезнями…
Эти и подобные мысли возникли у меня при знакомстве с книгой известного американского нейрохирурга и профессора в Гарвардском университете – одной из лучших в мире школ для обучения будущих врачей. Книга эта называется «Быть смертным: медицина и самое важное в конце жизни» Атула Гавандэ (Being Mortal: Medicine and What Matters in the End by Atul Gawande).
Он вспоминает, что в процессе учебы он и другие будущие врачи участвовали в семинаре, посвященном вопросу смерти. За основу для обсуждения был взят знаменитый рассказ Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Кстати, сам этот факт свидетельствует о необычайно высоком уровне преподавания медицины в Гарвардском университете: многие ли из моих коллег в России читали этот шедевр, имеющий прямое отношение к разбираемой теме? Атул Гавандэ пишет:
«Мы анализировали страдания Ивана Ильича, который лежал и страдал от всё прогрессировавшей неназванной и неизлечимой болезни. Это был 45-летний чиновник в Санкт-Петербурге, жизнь которого преимущественно состояла в мелких заботах о своем служебном положении. Однажды у него возникает боль в боку. Почему-то боль не успокаивается, а становится всё сильнее, и он уже не может ходить на службу. Ранее культурный, благовоспитанный и приятный собеседник, он становится мрачным и бессильным. Друзья и коллеги по работе начинают избегать его. Жена приглашает все более дорогих докторов. Каждый из них ставит свой диагноз, но их лекарства не помогают. Всё это вызывает у Ивана Ильича бессильную ярость. «Главное мучение Ивана Ильича была ложь, - та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее». У Ивана Ильича бывали проблески надежды, что, быть может, всё переменится, но поскольку он слабел и дрдел, он знал, что с ним происходит. Он жил в постоянной тревоге и страхе смерти. Но его доктора, друзья и семья отказывались рассматривать вопрос смерти. Именно от этого он страдал больше всего. «Кроме этой лжи, или вследствие её, мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели: Ивану Ильичу в иные минуты, после долгих страданий, больше всего хотелось, как ему ни совестно бы было признаться в этом, - хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтобы его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода, и что потому это невозможно; но ему всё-таки хотелось этого».
Нам, студентам – медикам, продолжает Атул Гавандэ, казалось, что отказ окружавших Ивана Ильича утешить его или признать то, что в действительности происходило с ним, было проявлением слабого характера и нехваткой культуры. Россия конца 19 века, изображенная Толстым, казалась нам грубой и почти примитивной. Мы полагали, что современная медицина, наверное, смогла бы вылечить Ивана Ильича, какой бы ни была его болезнь. Точно также мы были уверены, что честность и сочувствие являются неотъемлемыми чертами современного доктора. Мы были уверены, что в подобной ситуации мы проявим сострадание. Нас интересовало совсем другое – медицинские знания. Мы были уверены в своей способности посочувствовать больному, но мы не были столь уверены в наших знаниях, которые дали бы нам возможность поставить правильный диагноз и успешно лечить. Мы заплатили немалые деньги за то, чтобы понять внутренние процессы в человеческом организме, механизмы заболеваний и за то, чтобы усвоить громадный арсенал современных средств лечения. Нам казалось, что мы должны думать только об этом. Поэтому мы вскоре забыли рассказ о Иване Ильиче.
Через несколько лет я поступил в резидентуру, чтобы усовершенствовать свои хирургические навыки. И пациенты тотчас поставили передо мной проблемы угасания и смерти. Тут-то я и понял, насколько я был не готов решать эти проблемы.
В нашем отделении оказался больной, которого я назову Джозеф Лазароф. Это был чиновник городской администрации. За несколько лет до этого его жена скончалась от рака легких. Ему было за шестьдесят лет, и он тоже страдал от неизлечимого рака – рака предстательной железы со множественными метастазами. Он подрдел более чем на двадцать два килограмма. Его живот, мошонка и ноги были отёчны. Однажды он обнаружил, что у него недержание кала и паралич правой ноги. Его госпитализировали, и я встретил его в качестве интерна нейрохирургической бригады. Мы обнаружили, что опухоль проросла в грудной отдел позвоночника и сдавила спинной мозг. Вылечить такой рак нельзя, но мы надеялись, что пациенту можно помочь. К сожалению, срочное облучение не уменьшило объем опухоли, поэтому нейрохирург предложил больному два варианта: либо симптоматическое лечение (вернее, просто уход за больным) или же хирургическое удаление опухоли, проросшей в позвоночник. Лазароф выбрал хирургическое лечение.
Моя задача, как интерна нейрохирургической службы, заключалась в том, чтобы получить от него письменное согласие на операцию и заявление, что он понимает связанные с такой операцией риски. Я стоял перед входом в его палату, держа в потной руке его историю болезни, и пытался вообразить, как обсудить с ним опасности операции. Надежда заключалась в том, что операция остановит дальнейшее сдавление спинного мозга. Она не вылечит его, даже не ликвидирует паралич, и уж конечно, не вернет его к прежнему образу жизни. Что бы мы ни сделали, жить ему осталось, самое большее, несколько месяцев. Сама процедура была достаточно опасной. Требовалось вскрыть грудную клетку, удалить одно ребро и вызвать коллапс одного легкого, чтобы добраться до позвоночника. Кровопотеря будет значительной. Восстановление будет трудным. Учитывая то, что пациент очень ослабел, риск послеоперационных осложнений будет высоким. Таким образом, операция могла удрдшить его состояние или сократить его жизнь. Но нейрохирурга эти опасности не страшили, а Лазароф дал ясно понять, что он согласен на операцию. Таким образом, всё, что требовалось от меня, это войти в палату и оформить на бумаге согласие пациента. Лежа в кровати, Лазароф казался еще более бледным и истощенным. Я сказал ему, что я интерн, и что я пришел получить его письменное согласие на операцию и заявление, что он отдает себе отчет в связанных с нею рисками. Я сказал, что операция возможно удалит опухоль, но не исключены серьезные осложнения, например, паралич или даже смерть. Я старался выражаться ясно, но не слишком резко, но он не захотел меня слушать. Когда же его сын, который присутствовал при этом, высказал сомнение в правильности таких героических мер, Лазароф велел ему замолчать. «Не принуждай меня» - сказал он. «Я хочу использовать все шансы, которые остались у меня». Он подписал все бумаги, мы вышли из палаты.
Его сын сказал мне, что его мать умерла на аппарате искусственной вентиляции легких, и что тогда его отец сказал ему, что не хочет умереть таким же образом. Но сейчас он был непреклонен в том, чтобы использовать «все шансы».
Я полагал тогда, что Лазароф принял плохое решение, и я по-прежнему придерживаюсь этого мнения. Решение было плохим не потому, что оно было опасным, а потому, что операция не давала ему никакой надежды на то, что исчезнет недержание мочи и кала, что к нему вернутся его силы и та жизнь, которою он жил раньше. Он стремился к тому, что было на самом деле фантазией, рискуя при этом получить затяжное и ужасное умирание. Именно это он и получил.
В техническом отношения операция оказалась успешной. За восемь с половиной часов хирургам удалось удалить опухоль, проросшую в позвоночник, и укрепить тело позвонка акриловым цементом. Таким образом было ликвидировано сдавление спинного мозга. Но пациент так и не оправился после этой процедуры. В палате интенсивной терапии у него возникли дыхательная недостаточность, сепсис, тромбы из-за неподвижности и кровотечение вследствие приема антикоагулянтов. С каждым днем состояние его удрдшалось. Мы должны были признать, что он умирает. На четырнадцатый день его сын сказал хирургам прекратить борьбу.
На мою долю выпало отключить пациента от искусственной вентиляции, которая поддерживала его жизнь. Я увеличил капельное введение морфия с тем, чтобы он не страдал от удушья. Я склонился над ним и сказал ему, что сейчас я выну дыхательную трубку изо рта. Он кашлянул раза два, когда я вытаскивал трубку, открыл на мгновение глаза и вновь закрыл их. Дыхание стало затрудненным, а потом прекратилось. Я приложил свой стетоскоп к его груди и услышал, как его сердце постепенно перестало биться.
Ныне, спустя более чем десятилетие, то, что поражает меня больше всего, это не его плохое решение, а то, как все мы избегали честно обсудить с ним те возможности, которые имелись у него. Нам было нетрудно объяснить пациенту конкретные опасности разных способов лечения, но никто из нас не затронул вопроса об истинной сути его болезни. Онкологи, специалисты по облучению, хирурги и другие доктора – все мы на протяжении месяцев занимались лечением проблемы, которая была неизлечима. Мы не могли заставить себя обсудить с ним самую главную правду, касавшуюся его состояния, чтобы он понимал пределы наших возможностей, не говоря уже о том, что могло быть для него самым важным по мере того, как он приближался к концу своей жизни. Мы были во власти иллюзий точно так же, как и он.
Он находился в госпитале, частично парализованный вследствие рака, который захватил всё его тело. Шансы, что он сможет вернуться к жизни, которую он вел даже всего несколько недель до этого, равнялись нулю. Но признать это и помочь ему хотя бы как-то приноровиться к этому, было выше наших сил. Мы не предлагали ни утешения, ни добрых практических советов, как уменьшить его страдания. У нас в запасе было просто еще какое-то лечение, которое можно испробовать. «И тогда может выйти что-нибудь очень хорошее» …
Мы поступали только чуть лучше, чем примитивные доктора Ивана Ильича, а вернее сказать, даже држе, учитывая все новые формы физических мучений, которым мы подвергли нашего пациента. Так что можно спросить, кто был более примитивным?
Достижения современной науки глубоко изменили течение жизни человека. Люди сейчас живут дольше и лучше, чем когда-либо в прошлом. Эти достижения превратили процессы старения и умирания в медицинские проблемы, которыми надлежит заниматься медикам. Но наш медицинский мир оказался не подготовленным к этому.
Эта новая реальность оказалась в большей своей части скрытой, поскольку заключительные этапы жизни стали гораздо чаще протекать не на глазах у простых людей. Еще в 1945 году большинство смертей случалось в домашних условиях. К концу 1980-х годов таких случаев стало всего 17%. Те же, кто умирают дома, обычно умирают слишком быстро и потому не попадают в больницу – скажем, смерть от массивного инфаркта миокарда, от инсульта или от тяжелейшей травмы, либо в случае проживания в отдаленной и трудно доступной местности. Остальные люди не только в США, но и в других развитых странах умирают в больницах или в домах престарелых на глазах у медиков.
Когда я стал врачом, я оказался по другую сторону больничных дверей, и, хотя мои родители были медиками, всё увиденное было для меня новым. До этого я ни разу не присутствовал при смерти, так что увиденное мною вызвало у меня потрясение. Но вызвано это было не тем, что заставило меня подумать, что я тоже могу умереть. Почему-то такая мысль не пришла мне в голову, хотя я уже видел, что умирают люди также и моего возраста. На мне был белый халат, на них – больничные халаты. Я не мог вообразить противоположную картину. Но я мог представить себе членов моей семьи на их месте. Многие из моих близких – жена, мои родители, мои дети – переносили серьезные и опасные болезни. Но даже в самых тяжелых случаях медицина всегда спасали их. Теоретически я понимал, что мои родители могут умереть, но каждый такой случай казался мне как бы нарушением правил игры, в которую мы все играли. Не знаю, что это была за игра, но мы в ней всегда выигрывали.
Разумеется, смерть не является поражением или проигрышем. Смерть – это нормальное явление. Смерть может быть врагом, но она в естественном порядке вещей. Я знал эти истины абстрактно, но я не знал их конкретно, я не знал, что это справедливо не только для всех вообще, но также для того человека, который находится передо мной, человека, за благополучие которого я отвечаю.
Недавно скончавшийся хирург Sherwin Nuland в своей классической книге «How We Die» (Как мы умираем) написал с горечью «Финальную победу природы признавали и безропотно принимали все поколения до нас. Доктора смиренно склоняли головы перед признаками поражения и не дерзали отрицать их». Но сейчас, когда меня, вооруженного потрясающим технологическим арсеналом, уносит вдаль скоростное шоссе двадцать первого века, я не очень-то понимаю, что значит быть смиренным.
Даже непродолжительное общение с престарелыми или с людьми, у которых имеется финальная стадия неизлечимой болезни, показывает нам, как часто медицина не выполняет своего главного назначения – облегчить страдание. Последние дни нашей жизни заполняют попытки лечения, которые только иссушают наш мозг и тело в погоне за ничтожным шансом на улучшение. Наше нежелание честно изучать опыт старения и смерти только увеличивает страдания и лишает умирающих того утешения, которого они жаждут больше всего…