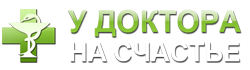dok34.ru
Moderator
Рассказ, по поводу которого написан отклик чуть выше.
смерть подождет
Смерть подождёт
Владислав Шурыгин
"Война, особенно гражданская, странный музей человеков", — об этом я думаю, натягивая на себя камуфляж и заступая на дежурство. Пару минут назад меня спасительно выдернул из тяжелого бредового сна Валера Осипов. Снился мне долгий разговор с Бекасовым — мужем моей подруги. Четыре года мы с ней встречались, и непросто, а по любви. Каждый день. Что греха таить, сладко нам было вместе, до одури сладко. ...Пусти меня сейчас Великий Пастух по ее следу, и я сразу возьму его верхним чутьем. Откопаю за тридевять земель...
Но у Великого Пастуха свои планы, а у меня свои — мне дежурить.
По спине то и дело судорогами пробегает "послеспальная" дрожь. И, хотя я понимаю, что на самом деле на улице даже душно — градусов двадцать — зябко. Ночь есть ночь, а сон есть сон. Умыться надо, но от этой мысли опять прошибает озноб.
— Слав, чай в банке. Только заварил. Муслики (мусульмане) спят. В общем, тишина. — Валера не спешит в койку и разминает в пальцах сигарету.
Камуфляж мой протерся почти до дыр. Особенно на коленях и локтях. Это я замечаю с грустью. У сербов хороший камуфляж, да вот привык я к своему. Сколько в нем прошел. Абхазию, "Белый дом", Таджикистан. Человек привыкает к вещам. Особенно мужик. "Прикипает" без смысла к какому-нибудь старому халату или линялой майке. Или к женщине...
Но эти мысли я гоню прочь. Хотя понимаю, за те четыре часа, что мне дежурить никуда от них не скрыться.
Не люблю дежурства. Всей душой. Еще с училища, когда простым "курсачем" (никогда не рвался в командиры) тромбовал асфальтовые дорожки вдоль каких-то там складов.
Перед казнью бы так последние минуты тянулись, как у солдата на часах. Всю душу изжуешь себе воспоминаниями, изведешься мечтами, а на часах стрелки как приклеенные...
"...Война какая-нибудь бы началась, — тут же мечтаю я, — ну что, жалко что ли мусликам пару десятков снарядов сжечь? Им теперь их жалеть какой смысл? Ведь доблестный наш мир на них работает. Оружие сплошь советское и американское. Самолеты НАТО, жратва немецкая, солдаты французские. Воюй! И спят, сволочи..."
Когда война — хорошо. Есть чем себя занять. И думать не о чем. Молись, чтобы не накрыло, да жди не начнется ли что подрже "бытового" обстрела.
Но войны сегодня нет и, шагая с Валерой к ближайшему управлению неподалеку, я предчувствую долгое и мучительное прозябание за штабным столом, над которым зависла тусклая лампочка. Еще и Бекасов приснился. Мать его...
Впрочем, я, наверное, ему тоже снюсь. И сны эти его тоже вряд ли радуют. И проснувшись среди ночи, оторвавшись от меня, какими глазами он глядит на спящую свою жену? Вот она, вся его, бери, мни, вгоняй, извергай стоны и охи. Да только коротковат у него изгнать их нее меня. Не из тела, нет. Тело женское слепо. С ним любой дурак управлять может. А с ее темпераментом и подавно. Из самой глубины души, вот оттуда ему меня не достать. За четыре года так растворились наши с Ленкой души друг в друге, что никаким "поршнем" меня не выдавить. И он это знает. В эти секунды, не приведи тебя Бог, Лена, увидеть его. В эти секунды он ненавидит тебя, меня, весь мир. И яд этой ненависти никогда не оставит его душу. Он тоже несчастный человек...
— К пяти утра со "Спящей красавицы" должен прийти Бранко с нашими, — напоминает Валера.
...Война действительно музей человеков. Валера Осипов закончил мехмат. До тридцати лет работал инженером в одном из питерских НИИ. Проектировал морские спутники. Получил квартиру, родил двоих детей. Старшему сейчас уже тринадцать. А в 92-м в июле, когда началась бендерская бойня в Приднестровье, что-то сломалось в тихом питерском инженере. Оставил заявление, одолжил у друзей денег на дорогу и в поезд. Маленький, сухой, в очках, чуть лысеющий — кому был нужен такой солдат? Однако все же прибился к какому-то добровольческому отряду. А уже через неделю его величали только по отчеству — Сергеи*ч. Или чаще по кличке — Часовщик. В его руках оживала и работала такая рухлядь, которая даже на свалке не привлечет к себе ничье внимание. В электронике Валера разбирался как Бог, и честно говоря, мы все — бойцы добровольческого отряда "Русские волки" с ревностью замечали, что для сербов Часовщик представлял в отличии от нас ценность. Под любым предлогом они держали его в штабе, не пускали на передовую.
Самым же удивительным было то, что и семья Часовщика приняла этот его образ жизни. Кем он работал в Питере между войнами Часовщик не говорил. Но как только где-то ничиналась "его война", под "своими войнами" Валера разумел войны славян с кем-либо еще, он бросал все и добирался туда. Жена же с детьми оставались терпеливо ждать отца с очередной победой, передавая через редких курьеров письма полные нарисованных поцелуев и еще чего-то такого, от чего сухой, колючий Часовщик как-то размякал и чуть-чуть полнел.
Жена Часовщика мне представлялась маленькой, полненькой преданной мышкой, тоже в толстых роговых очках с простыми волосами гладко зачесанными назад.
Но фотографию ее и детей Часовщик из каких-то своих суеверных побуждений никому не показывал, а с его слов, как и всегда со слов мужика — жена была первой красавицей, от которой "стояк врубит любого..."
— Спокойной ночи! — Часовщик затушил о дно пепельницы сигарету и вышел из блиндажа.
— Бай, бай! — отозвался я вслед...
Чай в литровой банке был действительно совсем горячим. И отхлебывая его я добрым словом помянул Часовщика.
Собственно говоря, делать было нечего. Булькала на столе стоящая на приеме радиостанция. Молчал телефон, обычный телефон, у которого давно не работали цифры, и лишь трубка была переделана под полевой шнур. На стене — карта. Карта нашего района. Все горы когда-то совсем незнакомые, чужие, теперь лазаны-перелазаны. До последней тропки валуна — все знакомо. "Спящая красавица", "Чертов палец", "Цервена гора". Аж скучно. Разве что мины "незнакомые" появляются. Но тут же как повезет. Последний подрыв был у нас две недели назад. Юра Лявко — здоровый украинский хлопец со львовщины — наступил, возвращаясь из разведки, на мусульманскую противопехотку. Мы подоспели к нему, когда он орал и катался по камням, прижимая к груди колено, ниже которого на щиколотке болтались грязно-алые лохмотья кожи, мяса, ботинка, носка. Из всего месива этого жутковатый в своей синеве выглядывл мосел сустава.
Но долго разглядывать времени не было. И я привычно поймал в жгут густо брызгающий во все стороны кровью обрубок. Резко перетянул его, потом еще сильней, пока из драных кисло пахнущих толом лохмотьев не перестала сочиться свежая алая кровь. Затем прямо в эту же ногу вкатил ему гуманный, освобождающий от мук промедол. Пока я возился с его ногой, на грудь Левко взгромоздился Пират — Гена, бывший морпех из Севастополя. Пиратом он стал после пьяной драки в Белграде, когда его левый глаз заплыл до черноты и, чтобы не пугать ожидающих нас утром командиров (а это был наш первый день здесь), он перетянул его скрученной косынкой. Сейчас Пират со всего размадр лупил ладонями по щекам Левко. Знает, что делает. Главное не дать парню свалится в шок. Рядом бестолково переминался с ноги на ногу Бекасов...
Мля! И надо же было чтоб так не повезло. Я удирал из Москвы, бросив в ней все. И главное Ленку, вдруг решившую после четырех лет безумного любовного надрыва, в котором сгорели моя семья, дом, работа, начать все сначала с Бекасовым. Вова Бескасов — это ее муж. За ним она уже десять лет. С моими четырьмя, правда. Гога Бекасов — это доброволец из Красногорска. Вечный студент МАИ, решивший вдруг найти свое призвание на войне... В первый же день, когда я прибыл сюда в отряд, он был первым, кого я встретил здесь.
— Георгий Бекасов, — очень культурно представился он, протягивая для пожатия ладонь. Меня как ледяной водой окатило. Или ошпарило — не знаю, что точнее.
Нет, я, в общем, не в обиде, что Бекасовых так много развелось по Руси. Пускай. Я очень даже любил и нежно люблю их сына Саню. дрдого, энергичного мальчишку, очень похожего на мать. Чтобы не калечить, по ее словам, его жизнь, она и решила попробовать жить со старшим Бекасовым. И как бы не было мне это горько и страшно — терплю, смирился я. Люблю Саньку. Люблю Ленку. Пусть попробуют. Это их право. Но я-то от всего этого ушел. Я-то уехал сюда, чтобы не видеть, не травить себе душу и — вот, на тебе, Гога Бекасов.
Ну что за "засада"?!
Не буду врать — Гогу я не люблю.
Наверное, даже ненавижу. Куда больше того Бекасова. С ним все сложнее. А Гога, без вины напоминающий мне мою жизнь, рухнувшую под откос посреди солнечного июля, меня просто бесит. Не могу его видеть. Хоть бы кличку какую получил, так нет же — все Гога Бекасов. Гога на войне — новичок. За спиной четвертак лет, куда вошел и институт, и служба на флоте, и даже неудачная женитьба. Да-да. Этому Бекасову тоже с личной жизнью не очень-то везет. Впрочем, наверное, как и мне. Но и на войне он лишний. Под огнем его клинит и он двигается, как заморенный рак, пока кто-нибудь из тех, кто рядом, не въедет ему прикладом "калаша" по горбу. После этого Гога начинает без разбора палить во все стороны, заставляя всех вокруг просто сатанеть. Поэтому за два месяца он даже клички не получил. Для меня же Гога — божеское наказание. Первые дни, когда я еще чумной от Москвы, от нашего с Ленкой разрыва приходил в себя, щедро анестезируя боль "ракией" и кислым местным вином, Гога увидел вдруг во мне земляка и друга. Лез по поводу и без повода в "капсулу", где я отлеживался. Обхаживал. В общем, довел. Развернул я его к двери, да и отправил косяки считать. Но к моему ужасу он не очень обиделся. На следующее же утро опять пришел. Принес сигарет. Господи, как же я его возненавидел. Грешно это, но скажу честно. Я хочу, чтобы его здесь "завалили". Чтобы я сам собирал по камням его ошметки в пластмассовый мусорный мешок, чтобы хоть этот Бекасов расчелся за все.
Рация вдруг оборвала свое бульканье, и в эфире зазвучал густой бас Бранко.
— Краина, я — Вук, ответь! — Бранко — командир "четы" (роты, по-нашему) четников по-русски шпарит почти без акцента.
— Краина на приеме, — отзываюсь я, утапливая тангенту на трубке станции.
— Айболит, ты? — тут же узнает Бранко.
Айболит — моя кличка.
— Я! — нехотя откликаюсь.
— Привет, друже! Только что вышел к вам Славко. С ним все ваши. Как понял?
— Хорошо понял. Как там у вас на "положае"?
"Положай" по-сербски — позиция.
— А ты не слышишь? — в голосе Бранко добродушная усмешка. До позиции по прямой километра четыре через скат высоты. Когда что-то начинается там, здесь не только слышно, но и достанется от минометов, накрывающих периодически лагерь.
— Все тихо в нашей вукоебине, — подытоживает Бранко. Последнее слово на русский язык переводится, как то место, куда Макар телят не гонял, но по-сербски.
— Будь здрав, Айболит!
— Будь здрав, Бранко!
Неторопливо заношу в тетрадь радиосвязи время и характер "беседы", но уже по уставу, без "ты", "Айболита" и прочего. Как учили.
На часах два ночи. Впереди еще два часа. Тянет в сон.
С 91-го я не вылезаю с этих войн. Начинал в Карабахе врачем в 345-м "педепе" — парашютно-десантном полку, то есть прикомандировали меня к полку от нашего госпиталя. Решили усилить, так сказать.
Четыре года прошло, а кажется уже вечность. Впрочем, так и есть, эпоха прошла. Нет больше ни государства, казавшегося нерушимым вечным монолитом, ни веры — кто помнит сегодня о "неизбежном торжестве коммунизма", ни семьи, ни дома, ничего нет. Есть лишь эта позиция русского добровольческого отряда, затерянного в боснийских горах за тысячи километров от России. Есть мы, двадцать русских мужиков, попавших сюда кто почему. И этот пятачок, увы, сегодня для меня самое надежное место на всей земле, потому что хотя бы здесь меня не предадут, не выстрелят в спину.
...Из армии я вылетел тогда же в 91-м. Отказался продать азербайджанцам промедол со склада "НЗ", и меня элементарно "подставили" подсунув через неделю мне в аэропорту сверток с анашой. Под суд не отдали — слава Богу! — но пинок под зад получил хороший. За месяц уволили. На мое место приехал новый доктор, но уже из Баку...
Вернулся домой, в Москву. Попробовал работать на "скорой", но быстро надоело. Тут меня дружок и уговорил устроиться к нему в районную поликлинику.
...Она пришла ко мне с растяжением щиколотки. Подвернула ногу на яме у подъезда. Как увидел ее — защемило сердце. Банально? Конечно. Но защемило — истинный крест! Понял я вдруг, что пришел конец моей предыдущей жизни. И хотя был я тогда женатым, сыну четыре года было, жену по-своему любил, берег, уважал, понял я — все потеряно из-за этой рыжей женщины-девочки, с горячими шоколадными глазами.
Так и вышло. В том далеком тропическом жарком мае, началась наша любовь. Началась самым противоестественным способом. В день их свадьбы. Шестилетия. Когда мы, не в силах более мучиться, целовались, озверело тиская друг друга в объятиях, на опустевшей кухне.
С тех пор день ее свадьбы был еще и нашим днем. День наш! И лишь ночь превращала ее опять в жену-именинницу...
Из поликлиники я ушел. Позвали меня в частную маленькую клинику на ночные дежурства. Очень это удобно оказалось. Ночь — в клинике. День — в полном моем распоряжении. Я часами ждал ее у школы, где она учительствовала в младших классах...
Эх Ленка, Ленка! Милая сумасбродная женщина. До какой же стадии может томить нас сердечная мука? Ленка! Женщина-кошка!
Наш путь любви — это крестный путь сплетенных наших тел через бесчисленные гостиницы, леса, квартиры друзей, подъезды, кафе... Мы доходили до беспредела, до бесстыдства…
От этих воспоминаний на меня накатывает такая сводящая скулы одурь, что я вдруг рычу и бою кулаками по столу. К черту! Так и знал, что дежурство закончиться чем-то подобным.
Самое тяжелое — это такие вот приступы воспоминий, когда шалая память, сорвавшись с привязи реальности, несется вскачь в те дни, в те дома, в те постели...
Неожиданно слух улавливает далекий рокот пулеметной очереди. На него тут же накладывается еще один. За ним еще. Несколько мгновений вслушиваюсь в нарастающую перестрелку и интуитивно понимаю: началось что-то серьезное. Это не ленивая "перебранка" дежурных расчетов, не пальба с перепою в белый свет, как в копеечку, и не заполошный огонь перепуганного новичка. Нет, очереди густо накладываются друг на друга, сплетаются, нарастают, упрямо выискивают кого-то.
Машинально смотрю на часы — половина третьего. Хватаю тангенту станции.
— Вук, ответь Краине!
Спустя несколько мгновений откликается "Вук" (волк, по-сербски). У микрофона не Бранко. И это тоже подтверждает мои мысли.
— Что там у вас?
— Напад, — коротко отвечает незнакомый серб. — "Муслики" со стороны "Цервеной горы" лезут. Но сколько пока не знаемо.
Мусульманского наступления мы ждем давно. Так давно, что даже устали. Уже больше месяца по всем телеканалам комментаторы всех цветов и мастей радостно сообщают, что в наш район стягиваются отборные части двух мусульманских корпусов. То и дело над нашими позициями нарезают небо натовские разведчики. Кого только не стянули сюда против нас. "Мусульманы" усилены афганскими и саудовскими моджахедами. Небо под контролем авиации НАТО, госпиталя — немецкие, их же и истребители-бомбардировщики. С флангов и в городе "мусликов" прикрывают французы и англичане...
— Все флаги в гости к нам, — философски подытожил как-то этот подсчет склонный к метафорам Пират. — Фигня! Прорвемся! Главное гранат побольше, да чтобы в спину не стреляли, — заканчивает он одним из наших тостов.
Выбегаю на улицу будить отряд. Но в блиндаже, где спят ребята, уже горит свет. Все одеваются молча и как-то отрешенно.
Вообще, в облачении мужчины перед боем есть что-то не от мира сего.
...Свой китайский "лифчик" я добыл в Таджикистане в прошлом году, когда ездил в гости к своему дружку — начальнику разведки одного из полков 201-й дивизии. Точнее добыл его он в каком-то рейде и подарил мне.
...Мы не торопимся. Долгий солдатский опыт подсказывает, что если уж началось, то никуда теперь война от нас не денется.
"Накаркал", — думаю я, вспоминая свои мечты после сна. В далекую перестрелку включается протяжное уханье минометов.
Пальцы привычно заняты своим делом. В наградные карманы легко ныряют магазины к автомату, отдельно ракетницы. На ключицы в маленькие кармашки — две гранаты. Еще четыре рифленных чугунных картофелины заталкиваю в карманы куртки. За спину рюкзачок с мадикаментами — рюкзачок сына. Он мне его сунул "на память" перед отъездом.
Милый мой Ленька! Девять лет стукнуло ему недавно, а на дне рождения я так и не был...
Свердр на сердце рукоятью вниз сажаю на кнопки нож и перехватываю его брезентовыми жгутами на липучках.
Ну вот и все. Доктор-солдат или солдат-доктор — как разобрать на войне кто есть кто — к бою готов.
В штабном блиндаже у рации уже сидят наш командир Седой и Часовщик. Седой — в прошлом подполковник-десантник.
— Со стороны "Цервеной горы" "Вука-два" атакует до батальона, — говорит он Часовщику, и тот выводит на карте синим фламастером скобку со стрелкой устремленной в нашу сторону. Со стороны "Чертова пальца" до роты в направлении на первый фланг "положая" Славко. Вновь "скобка" на карте.
— Поддерживают их до батареи минометов. Пока все.
Заходит "Пират" весь в патронных лентах с пулеметом "Браунинг": "Все управление в сборе".
— Так, братья славяне, — Седой откидывается на спинку стула, — обстановка темная. Приказов пока никаких нет, но не сомневайтесь, — будут!
— Часовщик, ты на приеме? Чтобы этот гроб, — Седой кивает на радиостанцию, — не сдох посреди работы.
— Пират, бери группу Нестора и займите оборону перед лесом. Пришли ко мне расчет пулеметчиков и снайпера.
— Айболит! — это уже ко мне. Встречаюсь взглядом с Седым. — Ты бери Косолапого с его людьми и будь под рукой в резерве. Наши остались на "Вуке" или ушли?
— Ушли сорок минут назад, — докладываю я.
Седой хмурится. Он не любит, когда в такие минуты кто-то из отряда находится вне его контроля.
Седой наш старожил. Службу он закончил сразу после вывода войск из Афгана комбригом спецназа. Осел под Одессой. Пытался открыть свое дело — автосервис, да не поделил что-то с мафией. Сожгли его мастерскую. После этого Седой запил. И в страшном этом двухлетнем запое потерял все. Ушла к другому жена с малолетним сыном. За гроши пропил комнату, доставшуюся после раздела имущества, пропил даже ордена, полученные за войну. Однажды чуть не захлебнулся во сне своей же блевотиной и чудом уцелев, откашлявшись, отдышавшись под скамейкой в парке, понял: либо в петлю, либо "завязывать". Седой — завязал. То есть стаканчик "ракии" может опрокинуть по поводу, но более — ни-ни. Войну начал в Приднестровье. Там же дошел до командира ТСО — териториально-спасательного отряда — добровольческого формирования. Воевал легко, отчаянно. Но после войны пришелся не ко двору. Отряд был расформирован, места в республиканской армии не нашлось. А после конфликта с местным комендатом, известным всей России полковником Рабиновичем, — жизни в республике больше не было. С тех пор Седой здесь. Какой мы у него по счету отряд — одному Богу известно. Но главное — мы знаем — уезжавшие в Россию хлопцы сказали: за Седым, как за сосной. Людей бережет и сербов в руках держит...
***
Вот уже полчаса грохочет бой. На "положае" от мусульман отбивается двухметровый косматый, бородатый Бранко со своей четой. Чуть правее и ниже его ведет бой чета Радомира — капитана армии генерала Младича. Их атакует усиленный батальон мусульман при поддержке минометов. Мы знаем, что уже погибло трое сербов от прямого попадания мины в пулеметный расчет, что Бранко контужен, но из боя не выходит и что к мусульманам прибыло подкрепление, и можно к утру ожидать усиления их атак.
Мы седим в полублиндаже, сооруженном над окопом, вырубленным в скале. Сербы говорят, что окопы остались еще с мировой войны от четников, партизанивших здесь. Может быть. Накат от минометов мы возвели сами. В бойницы, словно от фонаря, пададет яркий лунный свет. Полнолуние сегодня...
Мы с Ленкой очень любили полнолуние. Впрочем, почему любили? Любим. Я — здесь. Она — там. Но все равно мы. Кто нас разлучит? Муж? Нет. Он уже никогда не сможет встать между нами. Мы приварены друг к другу любовью. Она — нам двоим. Ему остается только жалость. Он простил, по его словам, ей все. Как великодушно! Но что ты можешь ей простить, грустный, маленький человек, страдающий рядом с ней, что был никем все эти годы? Так ты и без прощения никем остался. Не ты ее удержал рядом с собой, не ты! Если бы ты хотя бы мог представить, как мало значат для нас твои чувства, как жестоко и несправедливо мы обращались с тобой. Ты бы разорвал свое сердце напополам и проклял бы нас. Но для этого у тебя никогда не хватит мужества. Твой сын Санька — вот кто всегда был точкой отсчета. Его чувства, его страдания, его мечты — вот что было для нас главным. А ты "прощаешь"... Мне плевать на твое прощение. Оно никогда не разлучит нас.
Родня? Господи, за эти годы я развелся с женой, мой сын живет в чужом доме, мой дом занят чужими людьми. Нет, родня тоже никогда нас не остановит... Хотя, вру. Остановила. Ее остановила. Мать и сестра в далеком Приморском городе. Самые близкие ей люди в те недели, когда мы считали дни до нашего с ней съезда, уломали, сломали, отвели глаза, заколдовали, перекрутили ее. Но только сломали ли? Любовь — не спичка, дунешь — не погаснет. И на сколько хватит этой жертвенности ради ребенка, которому через пять-шесть лет будет по-молодому безразлична жизнь "предков". У которого будут свои друзья, свои влюбленности. На сколько хватит жалости к человеку, которого просто не любишь. И который, как ни крути, знает об этом...
***
С Бекасовым я познакомился, когда мы в первый раз решили все порвать. В июле 91-го, перед отъездом к матери в далекий приморский городок, она сказала: "Мы ставим точку, милый!" Тогда она еще и любимым-то меня не называла. Но зато спала со мной, что меня удивляло и вышибало. Причем я точно знал, что до этого она никогда не изменяла мужу. Точка была необходима, чтобы сохранить семьи. Ее и мою. Я поначалу не особенно и сопротивлялся. Обрадовался даже. Очень уж было страшно понимать, чем закончится наша связь для моей семьи, для уклада жизни. Но уже через два дня после ее отъезда я света белого не взвидел. Тогда я и нашел Бекасова. Затащил к себе, напились на пару.
Он был мне нужен как маленькая щель в ее жизнь, как нитка к ней, такой теперь далекой и чужой. Потом он уехал к ней, и я вообще начал заходиться тоской, ревностью, безумием.
Вобщем, так возник наш противоестественный треугольник. В котором мы оба — один тайно, а другой явно — любили ее одну.
Он любил ее! Любил с какой-то собачьей преданностью. Даже зная уже о нашей близости, лишенный ее тела, поставленный перед реальностью разрыва, он молча и упорно продолжал заботиться о ней, служить ей, опекать ее.
Бекасов — хороший мужик. Это только в дешевых романах двум влюбленным достаются муж алкоголик и жена проститутка. Только таких и бросать! У нас все было иначе. Бекасова мне было жалко и перед ним я чувствовал вину, хотя всегда понимал, что в нашей с ним молчаливой схватке за женщину пощады быть не должно. И все же я никогда не размазал его, как бы мог это сделать, не сделал ничего того, что считал нечестным по отношению к нему, если можно вообще назвать "честным" все это наше состояние.
Мне было грустно от того, что именно Бекасов был мужем Лены. Пожалуй, он один из немногих, с кем я мог бы искренне дружить. Теперь мы искренние враги…
Но я не желаю ему ни зла, ни боли. И не жалею ни минуты ни о чем. Я уехал сюда, в Сербию, чтобы не мешать им попробовать все сначала. В конце концов он и она должны попробовать, чтобы потом никогда не глодало их души раскаяние за то, что вдруг ошиблись, не сохранили, не удержали. Он говорит сегодня о своей "победе" на до мной. Грустно. Почему он не понимает, что на самом деле он не победил, а проиграл. Будь он мужчиной, выгони он ее, вышвырни из сердца, и, кто знает, чтобы она думала о нем через год, простила бы мне их разбитую жизнь, не ушла бы однажды к нему опустошенная, истерзанная, как поступила однажды ее подруга.
Теперь все наоборот. И теперь ему — наши не сбывшиеся надежды, нашу не начавшуюся жизнь, наши воспоминания и мечты. Теперь ему доказывать ей, что все это не зря, что у них еще все впереди, засыпать подарками, покупать деньгами. Убеждать в своей вечной любви. Он еще не знает, как от этого быстро устают.
…Чтобы ребенок был счастлив в семье, нужно как минимум две вещи — это любовь между родителями и излучаемая этой любовью надежность. Когда-то в семье Бекасовых это было. И, хотя по ее словам, Бекасова она никогда не любила всем сердцем, а скорее выбрала за долготерпение и надежность. Была у ниих хорошая семья, был лад, была искренность и чувство. И к этому, увы, уже никогда не дано вернутья. Я это понял по своей семье. И потому нам с женой хватило мужества не пытаться жить ходульной, уродливой ложью, ради поддержки мумии семьи. Мы разошлись. Но сохранили друг к другу уважение, понимание.
Если бы мы жили до сих пор, я знаю, мы бы уже просто ненавидели друг друга...
Но все равно, мне до звериного тяжело сейчас. За тысячу километров от меня, от этой войны любимая женщина спит в чужом доме с чужим мужиком. Есть от чего сходить с ума...
Неожиданно мысли обрывает нестройная перестелка где-то выше по горе в лесу. По дальности она идет явно в тылу у наших передовых. Я ловлю вопросительный взгляд Косолапого — Валеры Касалапчука — бывшего бойца Бендерского батальона республиканской гвардии знаменитого комбата Костенко. Спешу в блиндаж управления. И тут вокруг начинают рваться снаряды. Услышав знакомый стервозный шелест над головой ничком падаю за ближайший валун, и тотчас меня подбрасывает близким разрывом. От него сразу глохну и остальное слышу уже как сквозь вату. Снаряды рвутся густо, один за одним, кроша скалы и срубая деревья. Свердр нещадно сыпется каменная крошка и щипа. Но откуда артиллерия здесь? У мусульман на нашем направлении дальнобойной артилериии посто нет. Сдана ооновцам. И тут я соображаю — бьют французы. От этого мне вдруг становится смешно. Господи, ну почему я такой дурак? Почему я всегда должен воевать со всем миром? Почему я не могу как Бекасов сидеть спокойно в своей бухгалтерии и стрелять от безделия на экране компьютера монстров из "Дума", пока мои деньги делают из себя новые деньги? Почему?
Пока размышляю над этим, налет утихает, и я рывком бегу к блиндажу. Блиндаж сложен на каменной террасе под вертикальной скалой, и снаряды ложатся свердр либо далеко внизу. Только слышно как осколки разочарованно визжат, уносясь в небо. Глухота отпускает, и только в ушах еще долго звенит.
— Айболит? — встречает меня Седой. — Бери группу. Судя по всему, наши на пути домой нарвались на мусликов. Те, видимо, в обход шли. Пробейся к нашим, выведи кого сможешь. Пирата "приложило".
Я вопросительно смотрю на командира.
— Контузило, — поясняет он, — унесли в блиндаж. Но живой. Займешься им потом. Сейчас выручай наших. Меня тут уже озадачили...
***
Мы торопливо карабкаемся в гору. Ночью горный лес удивительно причудлив. Несмотря на войну, на опасность его красота завораживает. Высереберенные луной стволы деревьев, скалы, вспыхивающие во тьме искрами слюды, причудливые тени. Валуны, как чьи-то огромные головы под ногами. Мы спешим. Выше и справа, метрах в пятистах то и дело слышится дробный треск очередей. Мы забираем влево на звук "браунинга" — там отбивается еще один ленинградец Болек, бывший спортсмен, боксер, бывший участковый.
Мы все на этой войне "бывшие". Гражданская война не оставляет в своей инфернальности "настоящих", на ней все становятся "бывшими". Бывшими учителями, бывшими участковыми, бывшими офицерами, бывшими врачами. Наверное потому что гражданская война, это всегда смерть одного мира и рождение второго. Кто выживет на ней, тот и станет настоящим. Кто выживет и победит.
В далекой нашей России тоже война. Но война какая-то запутанная, чужая, бессмысленная. В которой враги многократно менялись местами, идеями, знаменами. В которой генералы враждующих сторон меняются должностями, чтобы покомандовать противником. Война, в которой давно никто никому не верит. Да и не война, а просто гниение с кровью. Гангрена. Была бы война, мы были бы там, а не здесь...
Я люблю сербов за то, что у них хватило мужества принять выбор войны. Я знаю, что через год или два она закончится здесь. Затихнет. И новый мир настанет на этой земле. Справедливый или нет — не мне судить. Скорее всего — нет. Весь мир против сербов и потому шансов победить почти нет. Но они хотя бы попробовали…
Я доброволец. Мое дело верить и воевать. Я шепчу святотатственно: "Лучше три года войны, чем десять лет гниения..."
К Болеку мы подбираемся свердр. Когда до него по звуку остается метров тридцать, дожидаемся паузы между очередями, и я кричу кукушкой. Хороша "кукушечка" в пятом часу ночи. Потом еще. Плевать на мусульман. Мне важно чтобы Болек "вьехал" и "не положил" нас в горячке. Наконец слышу резкий свист. "Угукаю" еще раз на всякий случай и рву вперед. Небо начинает сереть. То и дело грохочут очереди. Шальные пули визжат над головой, секут ветки деревьев, рекошетирут с искрами о камни. Петляю среди валунов, слышу, как в затылок сопит Косолапый, за ним вся его пятерка. Наконец в расщелине перед собой вижу знакомый дручок пулметного ствола. И за ним плечи и спину Болека.
— Свои, Болек! — окликаю я его. Он поворачивается. Плюхаюсь на камни рядом с ним, судорожно пытаясь остановить ходящую ходуном, запаленную бегом грудь.
— Слава Алладр, — скалится Болек. — Я уже думал, вы так ракии пережрали, что вообще ничего не слышете вокруг.
— Напад большой, — вставляю в русский, привычные здесь всем, сербские слова. Напад — атака, наступление.
— Слышу, — кивает Болек, — Вобщем так. Мы тут нарвались на мусликов. Здесь в низине их до вздвода. Держу пока.
Речь его то и дело перебивается визгом пуль и грохотом очередей. Поймав паузу, он приникает к пулемету и короткими очередями бьет куда-то вниз, по видимой ему цели. Прямо на мой локоть густо сыпятся горячие, воняющие порохом гильзы.
— Потери есть?
— Убитых нет, а Кузнеца зацепило. Причем здорово. Метров двадцать вправо расщелина. Он там с Гогой. Славко вернулся к своим наверх. А Лелек впереди. — он указывает рукой на темную расщелину в скалах ниже по склону. Я ничего не вижу, но неожиданно из тьмы бьет яркий язык пламени и грохочет очередь.
— Вижу! Командир сказал вас прикрыть и вывести из под огня.
— Чего выводить? Это вон мусликов выводить надо. Из этой низины им никуда не деться. Лучше обойди их справа по той осыпи, — он указывает на склон над лощиной, в которой зажаты муслики, — и вруби им в тыл. Разом и покончим.
— Добро! Только Кузнеца гляну.
В расщелине, под каменным козырьком в серой предрассветной хмаре сыро и холодно. У входа я натыкаюсь на Гогу, который то кидается к распростертому на камне Кузнецу, то залегает у входа с автоматом. Наклоняюсь над Кузнецом. По его серому, пепельному лицу сразу вижу — дело плохо. Дыхание учащенное, поверхностное. Пульс стрекочет под моими пальцами как швейная машина. Шок! Почти механически достаю из аптечки шприц — двойной промедол. Жгут на руку. Долго в полутьме пытаюсь нащупать вену, но они уже "нитивеют", теряются.
— Гога, огня! — прошу через плече. И Гога тотчас отзывается длинной долгой очередь куда-то во тьму.
Ну что за...
— Огня сюда! Посвети! Быстро!
Он пробирается ко мне и щелкает включателем фонарика. Есть, наконец-то попал. Игла поддела вену, впилась в нее. При шоке наркотик лучше сразу в вену, быстрее начнет работать.
Теперь внимательнее осмотреть раны. Одна пулевая в левом плече — так себе, — ерунда. Пуля порвала мышцу и ушла своей дорогой. држе вторая. Под правым соском яркой розовой пеной пузырится черный глаз. Аккуратно переворачиваю Кузнеца на бок, ножем распарываю на спине комбез, под ним свитер и тельник. Все густо набухло кровью. Вот оно! Так и есть — выходное отверстие. Сквозное, через легкое. Пневмоторекс — из раневых каналов воздух напрямую попадает наружу, давление внутри легкого уравнивается с атмосферным и легкое опадает, перестает функционировать, начинается отек. Фигово! Рву куски целофана с оболочки какого-то лекарства и широкими кусками пластыря приклеиваю их крест на крест через раны. Надо закрыть доступ воздудр. Вернуть давление...
...Трое из пятерки Косолапого утаскивают на руках Кузнеца. А мы вчетвером: я, Косолпапый, Гога и Рустик — Русла Кусов, осетин из Цхинвала — пробираемся по осыпе в тыл мусликам, засевшим в неглубокой кустистой лощине под нами. Нас четверо да неразлучная парочка Болек с Лелеком — мы пытаемся атаковать взвод регулярной мусульманской армии. Полный бред! Но это так. Война вообще соткана из одних противоречий, глупостей и случая. Мы в данный момент являемся всем этим сразу.
Открываем огонь одновременно, наугад стегая свинцом заросли под нами. Нам тут же вторят "браунинг" Болека и "калаш" Лелека. Нас всего шестеро. Я с холодком жду, когда же муслики нас посчитают и начнут попросту обкладывать, но неожиданно замечаю краем глаза, как от лощины вниз по склону, к опушке леса рванулся серый силуэт. За ним еще один. Еще. Господи, они бегут! Не выдержали. Услышав стрельбу за спиной, решили, что попали в кольцо и бросились к спасительному лесу. Жаль только, Болек их со своей скалы не видит. Мало бы кто ушел...
— Айболит, меня зацепило! — вдруг слышу сдавленный шопот Гоги.
— Вот черт! Только этого не хватало! Я переползаю к Гоге, приткнувшемуся спиной к валуну.
— Куда?
— Он протягивает левую руку. Посредине предплечья темнеет пулевая рана. На обратной стороне еще одна. Прямо мне на пальцы капает горячая липкая кровь.
— Пальцы чувствуешь?
— Да вроде, — жмурится от боли Гога и пытается сложить их в кулак.
— Не трепыхайся! — липкими, скользкими пальцами ощупываю "лучи", вроде все целы. Слава Богу!
— Не дрейфь, Гога. "Сквозняк" — скоро затянется, зарастет как на собаке. С крещеньицем тебя, земеля!
Я бинтую ему руку и мне вдруг становится хорошо и спокойно. Я улыбаюсь. Я рад, что драпанули муслики. Я рад, что победа опять на нашей стороне, я рад что Гога жив и что ранение у него пустяковое. И с каким-то чувством вины перед ним аккуратно перевязываю его драгоценную руку.
На самом деле я не хочу его смерти. Пусть Бекасов живет долго-долго. Пусть вернется в свой Красногорск, найдет себе хорошую бабу. Женится, настрогает кучу бекасят и показывает им по праздникам сине-фиолетовую вмятину от пули, полученной на далекой, далекой земле. Господи, в конце концов мы все здесь братья друг другу. Я перемазан кровью Гоги, Кузнеца, а до этого Левко, а до этого... Да что там вспоминать. Моя родня это они, кто не сломался, не скурвился за эти безумные годы, кто не променял свою душу на иномарку, должность бухгалтера в банке или пару ларьков, торгующих дешевой водкой. Кто в одиночку ведет свою битву, за свою землю. Здесь ли, в Сербии, под Калайдрмбом ли, под Грозным, в Москве ли, неважно. Это наше время. Если хотя бы на день задержится колесница момоны, дробящая нашу землю, если хотя бы на день остановит свой путь чужой ветхозаветный молох, пожирающий мою родину безвременьем, мы не зря боролись и погибали.
В конце концом мы просто солдаты этой войны. А как известно, солдатский век недолог...
Я смотрю на кусающего губы, бледного Гогу, и от сердца отступает тяжелая сосущая лихорадка мести. Я хочу, чтобы ты жил, Бекасов! И ты и тот — живите! Мне ничего от вас не надо. Все мое со мной. Мои чувства, моя вера, моя любовь. Их у меня не отобрать. Я счастлив!
В лагерь мы возвращаемся уже под ярким утренним солнцем. И я вспоминаю, шагая по знакомой тропе, как давным давно, лежа в койке родителей, отсутствующих на даче, я рассказывал обнимающей меня Ленке, что над нами живут еще одни Бекасовы. И что одного из братьев — сверстников моей сестры, зовут Санькой. Нам было хорошо и покойно. Сладко и нежно. Мне кажется, в этот день мы и зачали малыша. Помнишь, как мы трепетно ждали его, считали месяцы. В феврале был его срок. Я прилетел к тебе, в июльский Приморск, чтобы сказать о том, что приятель-банкир одолжил мне под продажу квартиры деньги на срочную покупку жилья для нас. Я застал тебя растерзанной после больницы. Выкидыш.
Ну почему все самое плохо случается с нами в твоем Приморске?
Как нам было тяжело и как мы нуждались друг в друге в те дни, как растворялись в ласке и нежности.
Семь утра. В Москве девять. Сейчас твой муж одевает куртку и выходит из дома. Наверное, говорит тебе от лифта что-то нежно-сюсюкающее. И ты стоишь в дверях, в своей красной ночнушке, свойство которой, задираться без всякого повода, я так хорошо знаю. Его ждет любезный БМВ, бизнес, деньги, которыми он набьет вечером твой кошелек. А я шагаю по этой тропе. Грязный, не бритый, в чужой крови, в затертом до дыр камуфляже и думаю о тебе.
— Все будет хорошо, малыш! — вдруг замечаю я, что говорю вслух. Каждый человек имеет право попробовать вернуться в никуда. Я не в обиде. Однажды ты все вспомнишь.
Эй, я шагаю сейчас по сербской земле, ставшей для меня родной. Между нами сейчас две тысячи верст. Но чувствую тебя, слышу. Услышь и ты меня: Эй, однажды я вернусь и мне будет очень нужен малыш. Твой и мой. Пусть это будет дочка. Она одна будет нам прощеньем и утешением в том страшном, что нам еще предстоит пережить. И пусть она будет похожа на тебя. Я согласен.
А если тебя все же купит твой Бекасов. И не таких покупали деньги и роскошь, не таким выкручивали руки постоянным напоминанием о счастье сына, о долге жены. Если ты останешься с ним, роди ребенка от него. Он все равно будет моим.
Один пожилой монах-четник сказал мне как-то, выслушав мою долгую полупьяную исповедь: "Друже, Слава, женщина всегда рожает только детей любимого мужчины. Так выжили мы, сербы. Наши женщины никогда не рожали турок. Даже в плену.
Молись Богу, Слава. Воюй и молись. Бог есть любовь. И потому вы в ней вечны.
***
...Есть только один способ нас разлучить. И имя ему смерть. Но ты знаешь, солдатское чутье мне говорит, что она пока согласна подождать.
© Copyright: Владислав Шурыгин, 2006
Свидетельство о публикации №206110600233
18+
Тяжеловато, но пронзительно. С помощью доктора - может быть счастлив и он и она. Сами...наверное тоже могут быть. Надеюсь 🙂
смерть подождет
Смерть подождёт
Владислав Шурыгин
"Война, особенно гражданская, странный музей человеков", — об этом я думаю, натягивая на себя камуфляж и заступая на дежурство. Пару минут назад меня спасительно выдернул из тяжелого бредового сна Валера Осипов. Снился мне долгий разговор с Бекасовым — мужем моей подруги. Четыре года мы с ней встречались, и непросто, а по любви. Каждый день. Что греха таить, сладко нам было вместе, до одури сладко. ...Пусти меня сейчас Великий Пастух по ее следу, и я сразу возьму его верхним чутьем. Откопаю за тридевять земель...
Но у Великого Пастуха свои планы, а у меня свои — мне дежурить.
По спине то и дело судорогами пробегает "послеспальная" дрожь. И, хотя я понимаю, что на самом деле на улице даже душно — градусов двадцать — зябко. Ночь есть ночь, а сон есть сон. Умыться надо, но от этой мысли опять прошибает озноб.
— Слав, чай в банке. Только заварил. Муслики (мусульмане) спят. В общем, тишина. — Валера не спешит в койку и разминает в пальцах сигарету.
Камуфляж мой протерся почти до дыр. Особенно на коленях и локтях. Это я замечаю с грустью. У сербов хороший камуфляж, да вот привык я к своему. Сколько в нем прошел. Абхазию, "Белый дом", Таджикистан. Человек привыкает к вещам. Особенно мужик. "Прикипает" без смысла к какому-нибудь старому халату или линялой майке. Или к женщине...
Но эти мысли я гоню прочь. Хотя понимаю, за те четыре часа, что мне дежурить никуда от них не скрыться.
Не люблю дежурства. Всей душой. Еще с училища, когда простым "курсачем" (никогда не рвался в командиры) тромбовал асфальтовые дорожки вдоль каких-то там складов.
Перед казнью бы так последние минуты тянулись, как у солдата на часах. Всю душу изжуешь себе воспоминаниями, изведешься мечтами, а на часах стрелки как приклеенные...
"...Война какая-нибудь бы началась, — тут же мечтаю я, — ну что, жалко что ли мусликам пару десятков снарядов сжечь? Им теперь их жалеть какой смысл? Ведь доблестный наш мир на них работает. Оружие сплошь советское и американское. Самолеты НАТО, жратва немецкая, солдаты французские. Воюй! И спят, сволочи..."
Когда война — хорошо. Есть чем себя занять. И думать не о чем. Молись, чтобы не накрыло, да жди не начнется ли что подрже "бытового" обстрела.
Но войны сегодня нет и, шагая с Валерой к ближайшему управлению неподалеку, я предчувствую долгое и мучительное прозябание за штабным столом, над которым зависла тусклая лампочка. Еще и Бекасов приснился. Мать его...
Впрочем, я, наверное, ему тоже снюсь. И сны эти его тоже вряд ли радуют. И проснувшись среди ночи, оторвавшись от меня, какими глазами он глядит на спящую свою жену? Вот она, вся его, бери, мни, вгоняй, извергай стоны и охи. Да только коротковат у него изгнать их нее меня. Не из тела, нет. Тело женское слепо. С ним любой дурак управлять может. А с ее темпераментом и подавно. Из самой глубины души, вот оттуда ему меня не достать. За четыре года так растворились наши с Ленкой души друг в друге, что никаким "поршнем" меня не выдавить. И он это знает. В эти секунды, не приведи тебя Бог, Лена, увидеть его. В эти секунды он ненавидит тебя, меня, весь мир. И яд этой ненависти никогда не оставит его душу. Он тоже несчастный человек...
— К пяти утра со "Спящей красавицы" должен прийти Бранко с нашими, — напоминает Валера.
...Война действительно музей человеков. Валера Осипов закончил мехмат. До тридцати лет работал инженером в одном из питерских НИИ. Проектировал морские спутники. Получил квартиру, родил двоих детей. Старшему сейчас уже тринадцать. А в 92-м в июле, когда началась бендерская бойня в Приднестровье, что-то сломалось в тихом питерском инженере. Оставил заявление, одолжил у друзей денег на дорогу и в поезд. Маленький, сухой, в очках, чуть лысеющий — кому был нужен такой солдат? Однако все же прибился к какому-то добровольческому отряду. А уже через неделю его величали только по отчеству — Сергеи*ч. Или чаще по кличке — Часовщик. В его руках оживала и работала такая рухлядь, которая даже на свалке не привлечет к себе ничье внимание. В электронике Валера разбирался как Бог, и честно говоря, мы все — бойцы добровольческого отряда "Русские волки" с ревностью замечали, что для сербов Часовщик представлял в отличии от нас ценность. Под любым предлогом они держали его в штабе, не пускали на передовую.
Самым же удивительным было то, что и семья Часовщика приняла этот его образ жизни. Кем он работал в Питере между войнами Часовщик не говорил. Но как только где-то ничиналась "его война", под "своими войнами" Валера разумел войны славян с кем-либо еще, он бросал все и добирался туда. Жена же с детьми оставались терпеливо ждать отца с очередной победой, передавая через редких курьеров письма полные нарисованных поцелуев и еще чего-то такого, от чего сухой, колючий Часовщик как-то размякал и чуть-чуть полнел.
Жена Часовщика мне представлялась маленькой, полненькой преданной мышкой, тоже в толстых роговых очках с простыми волосами гладко зачесанными назад.
Но фотографию ее и детей Часовщик из каких-то своих суеверных побуждений никому не показывал, а с его слов, как и всегда со слов мужика — жена была первой красавицей, от которой "стояк врубит любого..."
— Спокойной ночи! — Часовщик затушил о дно пепельницы сигарету и вышел из блиндажа.
— Бай, бай! — отозвался я вслед...
Чай в литровой банке был действительно совсем горячим. И отхлебывая его я добрым словом помянул Часовщика.
Собственно говоря, делать было нечего. Булькала на столе стоящая на приеме радиостанция. Молчал телефон, обычный телефон, у которого давно не работали цифры, и лишь трубка была переделана под полевой шнур. На стене — карта. Карта нашего района. Все горы когда-то совсем незнакомые, чужие, теперь лазаны-перелазаны. До последней тропки валуна — все знакомо. "Спящая красавица", "Чертов палец", "Цервена гора". Аж скучно. Разве что мины "незнакомые" появляются. Но тут же как повезет. Последний подрыв был у нас две недели назад. Юра Лявко — здоровый украинский хлопец со львовщины — наступил, возвращаясь из разведки, на мусульманскую противопехотку. Мы подоспели к нему, когда он орал и катался по камням, прижимая к груди колено, ниже которого на щиколотке болтались грязно-алые лохмотья кожи, мяса, ботинка, носка. Из всего месива этого жутковатый в своей синеве выглядывл мосел сустава.
Но долго разглядывать времени не было. И я привычно поймал в жгут густо брызгающий во все стороны кровью обрубок. Резко перетянул его, потом еще сильней, пока из драных кисло пахнущих толом лохмотьев не перестала сочиться свежая алая кровь. Затем прямо в эту же ногу вкатил ему гуманный, освобождающий от мук промедол. Пока я возился с его ногой, на грудь Левко взгромоздился Пират — Гена, бывший морпех из Севастополя. Пиратом он стал после пьяной драки в Белграде, когда его левый глаз заплыл до черноты и, чтобы не пугать ожидающих нас утром командиров (а это был наш первый день здесь), он перетянул его скрученной косынкой. Сейчас Пират со всего размадр лупил ладонями по щекам Левко. Знает, что делает. Главное не дать парню свалится в шок. Рядом бестолково переминался с ноги на ногу Бекасов...
Мля! И надо же было чтоб так не повезло. Я удирал из Москвы, бросив в ней все. И главное Ленку, вдруг решившую после четырех лет безумного любовного надрыва, в котором сгорели моя семья, дом, работа, начать все сначала с Бекасовым. Вова Бескасов — это ее муж. За ним она уже десять лет. С моими четырьмя, правда. Гога Бекасов — это доброволец из Красногорска. Вечный студент МАИ, решивший вдруг найти свое призвание на войне... В первый же день, когда я прибыл сюда в отряд, он был первым, кого я встретил здесь.
— Георгий Бекасов, — очень культурно представился он, протягивая для пожатия ладонь. Меня как ледяной водой окатило. Или ошпарило — не знаю, что точнее.
Нет, я, в общем, не в обиде, что Бекасовых так много развелось по Руси. Пускай. Я очень даже любил и нежно люблю их сына Саню. дрдого, энергичного мальчишку, очень похожего на мать. Чтобы не калечить, по ее словам, его жизнь, она и решила попробовать жить со старшим Бекасовым. И как бы не было мне это горько и страшно — терплю, смирился я. Люблю Саньку. Люблю Ленку. Пусть попробуют. Это их право. Но я-то от всего этого ушел. Я-то уехал сюда, чтобы не видеть, не травить себе душу и — вот, на тебе, Гога Бекасов.
Ну что за "засада"?!
Не буду врать — Гогу я не люблю.
Наверное, даже ненавижу. Куда больше того Бекасова. С ним все сложнее. А Гога, без вины напоминающий мне мою жизнь, рухнувшую под откос посреди солнечного июля, меня просто бесит. Не могу его видеть. Хоть бы кличку какую получил, так нет же — все Гога Бекасов. Гога на войне — новичок. За спиной четвертак лет, куда вошел и институт, и служба на флоте, и даже неудачная женитьба. Да-да. Этому Бекасову тоже с личной жизнью не очень-то везет. Впрочем, наверное, как и мне. Но и на войне он лишний. Под огнем его клинит и он двигается, как заморенный рак, пока кто-нибудь из тех, кто рядом, не въедет ему прикладом "калаша" по горбу. После этого Гога начинает без разбора палить во все стороны, заставляя всех вокруг просто сатанеть. Поэтому за два месяца он даже клички не получил. Для меня же Гога — божеское наказание. Первые дни, когда я еще чумной от Москвы, от нашего с Ленкой разрыва приходил в себя, щедро анестезируя боль "ракией" и кислым местным вином, Гога увидел вдруг во мне земляка и друга. Лез по поводу и без повода в "капсулу", где я отлеживался. Обхаживал. В общем, довел. Развернул я его к двери, да и отправил косяки считать. Но к моему ужасу он не очень обиделся. На следующее же утро опять пришел. Принес сигарет. Господи, как же я его возненавидел. Грешно это, но скажу честно. Я хочу, чтобы его здесь "завалили". Чтобы я сам собирал по камням его ошметки в пластмассовый мусорный мешок, чтобы хоть этот Бекасов расчелся за все.
Рация вдруг оборвала свое бульканье, и в эфире зазвучал густой бас Бранко.
— Краина, я — Вук, ответь! — Бранко — командир "четы" (роты, по-нашему) четников по-русски шпарит почти без акцента.
— Краина на приеме, — отзываюсь я, утапливая тангенту на трубке станции.
— Айболит, ты? — тут же узнает Бранко.
Айболит — моя кличка.
— Я! — нехотя откликаюсь.
— Привет, друже! Только что вышел к вам Славко. С ним все ваши. Как понял?
— Хорошо понял. Как там у вас на "положае"?
"Положай" по-сербски — позиция.
— А ты не слышишь? — в голосе Бранко добродушная усмешка. До позиции по прямой километра четыре через скат высоты. Когда что-то начинается там, здесь не только слышно, но и достанется от минометов, накрывающих периодически лагерь.
— Все тихо в нашей вукоебине, — подытоживает Бранко. Последнее слово на русский язык переводится, как то место, куда Макар телят не гонял, но по-сербски.
— Будь здрав, Айболит!
— Будь здрав, Бранко!
Неторопливо заношу в тетрадь радиосвязи время и характер "беседы", но уже по уставу, без "ты", "Айболита" и прочего. Как учили.
На часах два ночи. Впереди еще два часа. Тянет в сон.
С 91-го я не вылезаю с этих войн. Начинал в Карабахе врачем в 345-м "педепе" — парашютно-десантном полку, то есть прикомандировали меня к полку от нашего госпиталя. Решили усилить, так сказать.
Четыре года прошло, а кажется уже вечность. Впрочем, так и есть, эпоха прошла. Нет больше ни государства, казавшегося нерушимым вечным монолитом, ни веры — кто помнит сегодня о "неизбежном торжестве коммунизма", ни семьи, ни дома, ничего нет. Есть лишь эта позиция русского добровольческого отряда, затерянного в боснийских горах за тысячи километров от России. Есть мы, двадцать русских мужиков, попавших сюда кто почему. И этот пятачок, увы, сегодня для меня самое надежное место на всей земле, потому что хотя бы здесь меня не предадут, не выстрелят в спину.
...Из армии я вылетел тогда же в 91-м. Отказался продать азербайджанцам промедол со склада "НЗ", и меня элементарно "подставили" подсунув через неделю мне в аэропорту сверток с анашой. Под суд не отдали — слава Богу! — но пинок под зад получил хороший. За месяц уволили. На мое место приехал новый доктор, но уже из Баку...
Вернулся домой, в Москву. Попробовал работать на "скорой", но быстро надоело. Тут меня дружок и уговорил устроиться к нему в районную поликлинику.
...Она пришла ко мне с растяжением щиколотки. Подвернула ногу на яме у подъезда. Как увидел ее — защемило сердце. Банально? Конечно. Но защемило — истинный крест! Понял я вдруг, что пришел конец моей предыдущей жизни. И хотя был я тогда женатым, сыну четыре года было, жену по-своему любил, берег, уважал, понял я — все потеряно из-за этой рыжей женщины-девочки, с горячими шоколадными глазами.
Так и вышло. В том далеком тропическом жарком мае, началась наша любовь. Началась самым противоестественным способом. В день их свадьбы. Шестилетия. Когда мы, не в силах более мучиться, целовались, озверело тиская друг друга в объятиях, на опустевшей кухне.
С тех пор день ее свадьбы был еще и нашим днем. День наш! И лишь ночь превращала ее опять в жену-именинницу...
Из поликлиники я ушел. Позвали меня в частную маленькую клинику на ночные дежурства. Очень это удобно оказалось. Ночь — в клинике. День — в полном моем распоряжении. Я часами ждал ее у школы, где она учительствовала в младших классах...
Эх Ленка, Ленка! Милая сумасбродная женщина. До какой же стадии может томить нас сердечная мука? Ленка! Женщина-кошка!
Наш путь любви — это крестный путь сплетенных наших тел через бесчисленные гостиницы, леса, квартиры друзей, подъезды, кафе... Мы доходили до беспредела, до бесстыдства…
От этих воспоминаний на меня накатывает такая сводящая скулы одурь, что я вдруг рычу и бою кулаками по столу. К черту! Так и знал, что дежурство закончиться чем-то подобным.
Самое тяжелое — это такие вот приступы воспоминий, когда шалая память, сорвавшись с привязи реальности, несется вскачь в те дни, в те дома, в те постели...
Неожиданно слух улавливает далекий рокот пулеметной очереди. На него тут же накладывается еще один. За ним еще. Несколько мгновений вслушиваюсь в нарастающую перестрелку и интуитивно понимаю: началось что-то серьезное. Это не ленивая "перебранка" дежурных расчетов, не пальба с перепою в белый свет, как в копеечку, и не заполошный огонь перепуганного новичка. Нет, очереди густо накладываются друг на друга, сплетаются, нарастают, упрямо выискивают кого-то.
Машинально смотрю на часы — половина третьего. Хватаю тангенту станции.
— Вук, ответь Краине!
Спустя несколько мгновений откликается "Вук" (волк, по-сербски). У микрофона не Бранко. И это тоже подтверждает мои мысли.
— Что там у вас?
— Напад, — коротко отвечает незнакомый серб. — "Муслики" со стороны "Цервеной горы" лезут. Но сколько пока не знаемо.
Мусульманского наступления мы ждем давно. Так давно, что даже устали. Уже больше месяца по всем телеканалам комментаторы всех цветов и мастей радостно сообщают, что в наш район стягиваются отборные части двух мусульманских корпусов. То и дело над нашими позициями нарезают небо натовские разведчики. Кого только не стянули сюда против нас. "Мусульманы" усилены афганскими и саудовскими моджахедами. Небо под контролем авиации НАТО, госпиталя — немецкие, их же и истребители-бомбардировщики. С флангов и в городе "мусликов" прикрывают французы и англичане...
— Все флаги в гости к нам, — философски подытожил как-то этот подсчет склонный к метафорам Пират. — Фигня! Прорвемся! Главное гранат побольше, да чтобы в спину не стреляли, — заканчивает он одним из наших тостов.
Выбегаю на улицу будить отряд. Но в блиндаже, где спят ребята, уже горит свет. Все одеваются молча и как-то отрешенно.
Вообще, в облачении мужчины перед боем есть что-то не от мира сего.
...Свой китайский "лифчик" я добыл в Таджикистане в прошлом году, когда ездил в гости к своему дружку — начальнику разведки одного из полков 201-й дивизии. Точнее добыл его он в каком-то рейде и подарил мне.
...Мы не торопимся. Долгий солдатский опыт подсказывает, что если уж началось, то никуда теперь война от нас не денется.
"Накаркал", — думаю я, вспоминая свои мечты после сна. В далекую перестрелку включается протяжное уханье минометов.
Пальцы привычно заняты своим делом. В наградные карманы легко ныряют магазины к автомату, отдельно ракетницы. На ключицы в маленькие кармашки — две гранаты. Еще четыре рифленных чугунных картофелины заталкиваю в карманы куртки. За спину рюкзачок с мадикаментами — рюкзачок сына. Он мне его сунул "на память" перед отъездом.
Милый мой Ленька! Девять лет стукнуло ему недавно, а на дне рождения я так и не был...
Свердр на сердце рукоятью вниз сажаю на кнопки нож и перехватываю его брезентовыми жгутами на липучках.
Ну вот и все. Доктор-солдат или солдат-доктор — как разобрать на войне кто есть кто — к бою готов.
В штабном блиндаже у рации уже сидят наш командир Седой и Часовщик. Седой — в прошлом подполковник-десантник.
— Со стороны "Цервеной горы" "Вука-два" атакует до батальона, — говорит он Часовщику, и тот выводит на карте синим фламастером скобку со стрелкой устремленной в нашу сторону. Со стороны "Чертова пальца" до роты в направлении на первый фланг "положая" Славко. Вновь "скобка" на карте.
— Поддерживают их до батареи минометов. Пока все.
Заходит "Пират" весь в патронных лентах с пулеметом "Браунинг": "Все управление в сборе".
— Так, братья славяне, — Седой откидывается на спинку стула, — обстановка темная. Приказов пока никаких нет, но не сомневайтесь, — будут!
— Часовщик, ты на приеме? Чтобы этот гроб, — Седой кивает на радиостанцию, — не сдох посреди работы.
— Пират, бери группу Нестора и займите оборону перед лесом. Пришли ко мне расчет пулеметчиков и снайпера.
— Айболит! — это уже ко мне. Встречаюсь взглядом с Седым. — Ты бери Косолапого с его людьми и будь под рукой в резерве. Наши остались на "Вуке" или ушли?
— Ушли сорок минут назад, — докладываю я.
Седой хмурится. Он не любит, когда в такие минуты кто-то из отряда находится вне его контроля.
Седой наш старожил. Службу он закончил сразу после вывода войск из Афгана комбригом спецназа. Осел под Одессой. Пытался открыть свое дело — автосервис, да не поделил что-то с мафией. Сожгли его мастерскую. После этого Седой запил. И в страшном этом двухлетнем запое потерял все. Ушла к другому жена с малолетним сыном. За гроши пропил комнату, доставшуюся после раздела имущества, пропил даже ордена, полученные за войну. Однажды чуть не захлебнулся во сне своей же блевотиной и чудом уцелев, откашлявшись, отдышавшись под скамейкой в парке, понял: либо в петлю, либо "завязывать". Седой — завязал. То есть стаканчик "ракии" может опрокинуть по поводу, но более — ни-ни. Войну начал в Приднестровье. Там же дошел до командира ТСО — териториально-спасательного отряда — добровольческого формирования. Воевал легко, отчаянно. Но после войны пришелся не ко двору. Отряд был расформирован, места в республиканской армии не нашлось. А после конфликта с местным комендатом, известным всей России полковником Рабиновичем, — жизни в республике больше не было. С тех пор Седой здесь. Какой мы у него по счету отряд — одному Богу известно. Но главное — мы знаем — уезжавшие в Россию хлопцы сказали: за Седым, как за сосной. Людей бережет и сербов в руках держит...
***
Вот уже полчаса грохочет бой. На "положае" от мусульман отбивается двухметровый косматый, бородатый Бранко со своей четой. Чуть правее и ниже его ведет бой чета Радомира — капитана армии генерала Младича. Их атакует усиленный батальон мусульман при поддержке минометов. Мы знаем, что уже погибло трое сербов от прямого попадания мины в пулеметный расчет, что Бранко контужен, но из боя не выходит и что к мусульманам прибыло подкрепление, и можно к утру ожидать усиления их атак.
Мы седим в полублиндаже, сооруженном над окопом, вырубленным в скале. Сербы говорят, что окопы остались еще с мировой войны от четников, партизанивших здесь. Может быть. Накат от минометов мы возвели сами. В бойницы, словно от фонаря, пададет яркий лунный свет. Полнолуние сегодня...
Мы с Ленкой очень любили полнолуние. Впрочем, почему любили? Любим. Я — здесь. Она — там. Но все равно мы. Кто нас разлучит? Муж? Нет. Он уже никогда не сможет встать между нами. Мы приварены друг к другу любовью. Она — нам двоим. Ему остается только жалость. Он простил, по его словам, ей все. Как великодушно! Но что ты можешь ей простить, грустный, маленький человек, страдающий рядом с ней, что был никем все эти годы? Так ты и без прощения никем остался. Не ты ее удержал рядом с собой, не ты! Если бы ты хотя бы мог представить, как мало значат для нас твои чувства, как жестоко и несправедливо мы обращались с тобой. Ты бы разорвал свое сердце напополам и проклял бы нас. Но для этого у тебя никогда не хватит мужества. Твой сын Санька — вот кто всегда был точкой отсчета. Его чувства, его страдания, его мечты — вот что было для нас главным. А ты "прощаешь"... Мне плевать на твое прощение. Оно никогда не разлучит нас.
Родня? Господи, за эти годы я развелся с женой, мой сын живет в чужом доме, мой дом занят чужими людьми. Нет, родня тоже никогда нас не остановит... Хотя, вру. Остановила. Ее остановила. Мать и сестра в далеком Приморском городе. Самые близкие ей люди в те недели, когда мы считали дни до нашего с ней съезда, уломали, сломали, отвели глаза, заколдовали, перекрутили ее. Но только сломали ли? Любовь — не спичка, дунешь — не погаснет. И на сколько хватит этой жертвенности ради ребенка, которому через пять-шесть лет будет по-молодому безразлична жизнь "предков". У которого будут свои друзья, свои влюбленности. На сколько хватит жалости к человеку, которого просто не любишь. И который, как ни крути, знает об этом...
***
С Бекасовым я познакомился, когда мы в первый раз решили все порвать. В июле 91-го, перед отъездом к матери в далекий приморский городок, она сказала: "Мы ставим точку, милый!" Тогда она еще и любимым-то меня не называла. Но зато спала со мной, что меня удивляло и вышибало. Причем я точно знал, что до этого она никогда не изменяла мужу. Точка была необходима, чтобы сохранить семьи. Ее и мою. Я поначалу не особенно и сопротивлялся. Обрадовался даже. Очень уж было страшно понимать, чем закончится наша связь для моей семьи, для уклада жизни. Но уже через два дня после ее отъезда я света белого не взвидел. Тогда я и нашел Бекасова. Затащил к себе, напились на пару.
Он был мне нужен как маленькая щель в ее жизнь, как нитка к ней, такой теперь далекой и чужой. Потом он уехал к ней, и я вообще начал заходиться тоской, ревностью, безумием.
Вобщем, так возник наш противоестественный треугольник. В котором мы оба — один тайно, а другой явно — любили ее одну.
Он любил ее! Любил с какой-то собачьей преданностью. Даже зная уже о нашей близости, лишенный ее тела, поставленный перед реальностью разрыва, он молча и упорно продолжал заботиться о ней, служить ей, опекать ее.
Бекасов — хороший мужик. Это только в дешевых романах двум влюбленным достаются муж алкоголик и жена проститутка. Только таких и бросать! У нас все было иначе. Бекасова мне было жалко и перед ним я чувствовал вину, хотя всегда понимал, что в нашей с ним молчаливой схватке за женщину пощады быть не должно. И все же я никогда не размазал его, как бы мог это сделать, не сделал ничего того, что считал нечестным по отношению к нему, если можно вообще назвать "честным" все это наше состояние.
Мне было грустно от того, что именно Бекасов был мужем Лены. Пожалуй, он один из немногих, с кем я мог бы искренне дружить. Теперь мы искренние враги…
Но я не желаю ему ни зла, ни боли. И не жалею ни минуты ни о чем. Я уехал сюда, в Сербию, чтобы не мешать им попробовать все сначала. В конце концов он и она должны попробовать, чтобы потом никогда не глодало их души раскаяние за то, что вдруг ошиблись, не сохранили, не удержали. Он говорит сегодня о своей "победе" на до мной. Грустно. Почему он не понимает, что на самом деле он не победил, а проиграл. Будь он мужчиной, выгони он ее, вышвырни из сердца, и, кто знает, чтобы она думала о нем через год, простила бы мне их разбитую жизнь, не ушла бы однажды к нему опустошенная, истерзанная, как поступила однажды ее подруга.
Теперь все наоборот. И теперь ему — наши не сбывшиеся надежды, нашу не начавшуюся жизнь, наши воспоминания и мечты. Теперь ему доказывать ей, что все это не зря, что у них еще все впереди, засыпать подарками, покупать деньгами. Убеждать в своей вечной любви. Он еще не знает, как от этого быстро устают.
…Чтобы ребенок был счастлив в семье, нужно как минимум две вещи — это любовь между родителями и излучаемая этой любовью надежность. Когда-то в семье Бекасовых это было. И, хотя по ее словам, Бекасова она никогда не любила всем сердцем, а скорее выбрала за долготерпение и надежность. Была у ниих хорошая семья, был лад, была искренность и чувство. И к этому, увы, уже никогда не дано вернутья. Я это понял по своей семье. И потому нам с женой хватило мужества не пытаться жить ходульной, уродливой ложью, ради поддержки мумии семьи. Мы разошлись. Но сохранили друг к другу уважение, понимание.
Если бы мы жили до сих пор, я знаю, мы бы уже просто ненавидели друг друга...
Но все равно, мне до звериного тяжело сейчас. За тысячу километров от меня, от этой войны любимая женщина спит в чужом доме с чужим мужиком. Есть от чего сходить с ума...
Неожиданно мысли обрывает нестройная перестелка где-то выше по горе в лесу. По дальности она идет явно в тылу у наших передовых. Я ловлю вопросительный взгляд Косолапого — Валеры Касалапчука — бывшего бойца Бендерского батальона республиканской гвардии знаменитого комбата Костенко. Спешу в блиндаж управления. И тут вокруг начинают рваться снаряды. Услышав знакомый стервозный шелест над головой ничком падаю за ближайший валун, и тотчас меня подбрасывает близким разрывом. От него сразу глохну и остальное слышу уже как сквозь вату. Снаряды рвутся густо, один за одним, кроша скалы и срубая деревья. Свердр нещадно сыпется каменная крошка и щипа. Но откуда артиллерия здесь? У мусульман на нашем направлении дальнобойной артилериии посто нет. Сдана ооновцам. И тут я соображаю — бьют французы. От этого мне вдруг становится смешно. Господи, ну почему я такой дурак? Почему я всегда должен воевать со всем миром? Почему я не могу как Бекасов сидеть спокойно в своей бухгалтерии и стрелять от безделия на экране компьютера монстров из "Дума", пока мои деньги делают из себя новые деньги? Почему?
Пока размышляю над этим, налет утихает, и я рывком бегу к блиндажу. Блиндаж сложен на каменной террасе под вертикальной скалой, и снаряды ложатся свердр либо далеко внизу. Только слышно как осколки разочарованно визжат, уносясь в небо. Глухота отпускает, и только в ушах еще долго звенит.
— Айболит? — встречает меня Седой. — Бери группу. Судя по всему, наши на пути домой нарвались на мусликов. Те, видимо, в обход шли. Пробейся к нашим, выведи кого сможешь. Пирата "приложило".
Я вопросительно смотрю на командира.
— Контузило, — поясняет он, — унесли в блиндаж. Но живой. Займешься им потом. Сейчас выручай наших. Меня тут уже озадачили...
***
Мы торопливо карабкаемся в гору. Ночью горный лес удивительно причудлив. Несмотря на войну, на опасность его красота завораживает. Высереберенные луной стволы деревьев, скалы, вспыхивающие во тьме искрами слюды, причудливые тени. Валуны, как чьи-то огромные головы под ногами. Мы спешим. Выше и справа, метрах в пятистах то и дело слышится дробный треск очередей. Мы забираем влево на звук "браунинга" — там отбивается еще один ленинградец Болек, бывший спортсмен, боксер, бывший участковый.
Мы все на этой войне "бывшие". Гражданская война не оставляет в своей инфернальности "настоящих", на ней все становятся "бывшими". Бывшими учителями, бывшими участковыми, бывшими офицерами, бывшими врачами. Наверное потому что гражданская война, это всегда смерть одного мира и рождение второго. Кто выживет на ней, тот и станет настоящим. Кто выживет и победит.
В далекой нашей России тоже война. Но война какая-то запутанная, чужая, бессмысленная. В которой враги многократно менялись местами, идеями, знаменами. В которой генералы враждующих сторон меняются должностями, чтобы покомандовать противником. Война, в которой давно никто никому не верит. Да и не война, а просто гниение с кровью. Гангрена. Была бы война, мы были бы там, а не здесь...
Я люблю сербов за то, что у них хватило мужества принять выбор войны. Я знаю, что через год или два она закончится здесь. Затихнет. И новый мир настанет на этой земле. Справедливый или нет — не мне судить. Скорее всего — нет. Весь мир против сербов и потому шансов победить почти нет. Но они хотя бы попробовали…
Я доброволец. Мое дело верить и воевать. Я шепчу святотатственно: "Лучше три года войны, чем десять лет гниения..."
К Болеку мы подбираемся свердр. Когда до него по звуку остается метров тридцать, дожидаемся паузы между очередями, и я кричу кукушкой. Хороша "кукушечка" в пятом часу ночи. Потом еще. Плевать на мусульман. Мне важно чтобы Болек "вьехал" и "не положил" нас в горячке. Наконец слышу резкий свист. "Угукаю" еще раз на всякий случай и рву вперед. Небо начинает сереть. То и дело грохочут очереди. Шальные пули визжат над головой, секут ветки деревьев, рекошетирут с искрами о камни. Петляю среди валунов, слышу, как в затылок сопит Косолапый, за ним вся его пятерка. Наконец в расщелине перед собой вижу знакомый дручок пулметного ствола. И за ним плечи и спину Болека.
— Свои, Болек! — окликаю я его. Он поворачивается. Плюхаюсь на камни рядом с ним, судорожно пытаясь остановить ходящую ходуном, запаленную бегом грудь.
— Слава Алладр, — скалится Болек. — Я уже думал, вы так ракии пережрали, что вообще ничего не слышете вокруг.
— Напад большой, — вставляю в русский, привычные здесь всем, сербские слова. Напад — атака, наступление.
— Слышу, — кивает Болек, — Вобщем так. Мы тут нарвались на мусликов. Здесь в низине их до вздвода. Держу пока.
Речь его то и дело перебивается визгом пуль и грохотом очередей. Поймав паузу, он приникает к пулемету и короткими очередями бьет куда-то вниз, по видимой ему цели. Прямо на мой локоть густо сыпятся горячие, воняющие порохом гильзы.
— Потери есть?
— Убитых нет, а Кузнеца зацепило. Причем здорово. Метров двадцать вправо расщелина. Он там с Гогой. Славко вернулся к своим наверх. А Лелек впереди. — он указывает рукой на темную расщелину в скалах ниже по склону. Я ничего не вижу, но неожиданно из тьмы бьет яркий язык пламени и грохочет очередь.
— Вижу! Командир сказал вас прикрыть и вывести из под огня.
— Чего выводить? Это вон мусликов выводить надо. Из этой низины им никуда не деться. Лучше обойди их справа по той осыпи, — он указывает на склон над лощиной, в которой зажаты муслики, — и вруби им в тыл. Разом и покончим.
— Добро! Только Кузнеца гляну.
В расщелине, под каменным козырьком в серой предрассветной хмаре сыро и холодно. У входа я натыкаюсь на Гогу, который то кидается к распростертому на камне Кузнецу, то залегает у входа с автоматом. Наклоняюсь над Кузнецом. По его серому, пепельному лицу сразу вижу — дело плохо. Дыхание учащенное, поверхностное. Пульс стрекочет под моими пальцами как швейная машина. Шок! Почти механически достаю из аптечки шприц — двойной промедол. Жгут на руку. Долго в полутьме пытаюсь нащупать вену, но они уже "нитивеют", теряются.
— Гога, огня! — прошу через плече. И Гога тотчас отзывается длинной долгой очередь куда-то во тьму.
Ну что за...
— Огня сюда! Посвети! Быстро!
Он пробирается ко мне и щелкает включателем фонарика. Есть, наконец-то попал. Игла поддела вену, впилась в нее. При шоке наркотик лучше сразу в вену, быстрее начнет работать.
Теперь внимательнее осмотреть раны. Одна пулевая в левом плече — так себе, — ерунда. Пуля порвала мышцу и ушла своей дорогой. држе вторая. Под правым соском яркой розовой пеной пузырится черный глаз. Аккуратно переворачиваю Кузнеца на бок, ножем распарываю на спине комбез, под ним свитер и тельник. Все густо набухло кровью. Вот оно! Так и есть — выходное отверстие. Сквозное, через легкое. Пневмоторекс — из раневых каналов воздух напрямую попадает наружу, давление внутри легкого уравнивается с атмосферным и легкое опадает, перестает функционировать, начинается отек. Фигово! Рву куски целофана с оболочки какого-то лекарства и широкими кусками пластыря приклеиваю их крест на крест через раны. Надо закрыть доступ воздудр. Вернуть давление...
...Трое из пятерки Косолапого утаскивают на руках Кузнеца. А мы вчетвером: я, Косолпапый, Гога и Рустик — Русла Кусов, осетин из Цхинвала — пробираемся по осыпе в тыл мусликам, засевшим в неглубокой кустистой лощине под нами. Нас четверо да неразлучная парочка Болек с Лелеком — мы пытаемся атаковать взвод регулярной мусульманской армии. Полный бред! Но это так. Война вообще соткана из одних противоречий, глупостей и случая. Мы в данный момент являемся всем этим сразу.
Открываем огонь одновременно, наугад стегая свинцом заросли под нами. Нам тут же вторят "браунинг" Болека и "калаш" Лелека. Нас всего шестеро. Я с холодком жду, когда же муслики нас посчитают и начнут попросту обкладывать, но неожиданно замечаю краем глаза, как от лощины вниз по склону, к опушке леса рванулся серый силуэт. За ним еще один. Еще. Господи, они бегут! Не выдержали. Услышав стрельбу за спиной, решили, что попали в кольцо и бросились к спасительному лесу. Жаль только, Болек их со своей скалы не видит. Мало бы кто ушел...
— Айболит, меня зацепило! — вдруг слышу сдавленный шопот Гоги.
— Вот черт! Только этого не хватало! Я переползаю к Гоге, приткнувшемуся спиной к валуну.
— Куда?
— Он протягивает левую руку. Посредине предплечья темнеет пулевая рана. На обратной стороне еще одна. Прямо мне на пальцы капает горячая липкая кровь.
— Пальцы чувствуешь?
— Да вроде, — жмурится от боли Гога и пытается сложить их в кулак.
— Не трепыхайся! — липкими, скользкими пальцами ощупываю "лучи", вроде все целы. Слава Богу!
— Не дрейфь, Гога. "Сквозняк" — скоро затянется, зарастет как на собаке. С крещеньицем тебя, земеля!
Я бинтую ему руку и мне вдруг становится хорошо и спокойно. Я улыбаюсь. Я рад, что драпанули муслики. Я рад, что победа опять на нашей стороне, я рад что Гога жив и что ранение у него пустяковое. И с каким-то чувством вины перед ним аккуратно перевязываю его драгоценную руку.
На самом деле я не хочу его смерти. Пусть Бекасов живет долго-долго. Пусть вернется в свой Красногорск, найдет себе хорошую бабу. Женится, настрогает кучу бекасят и показывает им по праздникам сине-фиолетовую вмятину от пули, полученной на далекой, далекой земле. Господи, в конце концов мы все здесь братья друг другу. Я перемазан кровью Гоги, Кузнеца, а до этого Левко, а до этого... Да что там вспоминать. Моя родня это они, кто не сломался, не скурвился за эти безумные годы, кто не променял свою душу на иномарку, должность бухгалтера в банке или пару ларьков, торгующих дешевой водкой. Кто в одиночку ведет свою битву, за свою землю. Здесь ли, в Сербии, под Калайдрмбом ли, под Грозным, в Москве ли, неважно. Это наше время. Если хотя бы на день задержится колесница момоны, дробящая нашу землю, если хотя бы на день остановит свой путь чужой ветхозаветный молох, пожирающий мою родину безвременьем, мы не зря боролись и погибали.
В конце концом мы просто солдаты этой войны. А как известно, солдатский век недолог...
Я смотрю на кусающего губы, бледного Гогу, и от сердца отступает тяжелая сосущая лихорадка мести. Я хочу, чтобы ты жил, Бекасов! И ты и тот — живите! Мне ничего от вас не надо. Все мое со мной. Мои чувства, моя вера, моя любовь. Их у меня не отобрать. Я счастлив!
В лагерь мы возвращаемся уже под ярким утренним солнцем. И я вспоминаю, шагая по знакомой тропе, как давным давно, лежа в койке родителей, отсутствующих на даче, я рассказывал обнимающей меня Ленке, что над нами живут еще одни Бекасовы. И что одного из братьев — сверстников моей сестры, зовут Санькой. Нам было хорошо и покойно. Сладко и нежно. Мне кажется, в этот день мы и зачали малыша. Помнишь, как мы трепетно ждали его, считали месяцы. В феврале был его срок. Я прилетел к тебе, в июльский Приморск, чтобы сказать о том, что приятель-банкир одолжил мне под продажу квартиры деньги на срочную покупку жилья для нас. Я застал тебя растерзанной после больницы. Выкидыш.
Ну почему все самое плохо случается с нами в твоем Приморске?
Как нам было тяжело и как мы нуждались друг в друге в те дни, как растворялись в ласке и нежности.
Семь утра. В Москве девять. Сейчас твой муж одевает куртку и выходит из дома. Наверное, говорит тебе от лифта что-то нежно-сюсюкающее. И ты стоишь в дверях, в своей красной ночнушке, свойство которой, задираться без всякого повода, я так хорошо знаю. Его ждет любезный БМВ, бизнес, деньги, которыми он набьет вечером твой кошелек. А я шагаю по этой тропе. Грязный, не бритый, в чужой крови, в затертом до дыр камуфляже и думаю о тебе.
— Все будет хорошо, малыш! — вдруг замечаю я, что говорю вслух. Каждый человек имеет право попробовать вернуться в никуда. Я не в обиде. Однажды ты все вспомнишь.
Эй, я шагаю сейчас по сербской земле, ставшей для меня родной. Между нами сейчас две тысячи верст. Но чувствую тебя, слышу. Услышь и ты меня: Эй, однажды я вернусь и мне будет очень нужен малыш. Твой и мой. Пусть это будет дочка. Она одна будет нам прощеньем и утешением в том страшном, что нам еще предстоит пережить. И пусть она будет похожа на тебя. Я согласен.
А если тебя все же купит твой Бекасов. И не таких покупали деньги и роскошь, не таким выкручивали руки постоянным напоминанием о счастье сына, о долге жены. Если ты останешься с ним, роди ребенка от него. Он все равно будет моим.
Один пожилой монах-четник сказал мне как-то, выслушав мою долгую полупьяную исповедь: "Друже, Слава, женщина всегда рожает только детей любимого мужчины. Так выжили мы, сербы. Наши женщины никогда не рожали турок. Даже в плену.
Молись Богу, Слава. Воюй и молись. Бог есть любовь. И потому вы в ней вечны.
***
...Есть только один способ нас разлучить. И имя ему смерть. Но ты знаешь, солдатское чутье мне говорит, что она пока согласна подождать.
© Copyright: Владислав Шурыгин, 2006
Свидетельство о публикации №206110600233
18+
Тяжеловато, но пронзительно. С помощью доктора - может быть счастлив и он и она. Сами...наверное тоже могут быть. Надеюсь 🙂