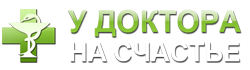dok34.ru
Moderator
...пустой лаской, будто спину любимой кошки; взгляд певицы туманился грустью.
Струилось по залу тихим огнем:
— И жизнь не прошла, и сирень не опала, И воздух весною пьянит, как всегда, И в вечере плещется млечность опала, Но где-то — беда…
Смолкали дачники. Прекращали свои вечные, как суета сует, разговоры о многочисленных хворях-болезнях. О целебных свойствах раннего кизила и амулетов из халцедона. О политике. Об искусстве. О племяннице Грушеньке, которую замуж не берут, а если и берут, то фармазоны всякие.
Понуро клали головы на кулаки инкерманские виноделы. Глаза жмурили. Забывали о ценах на ординарный шато-икем и золотистый токай. О поставках. О безруких скотах-подмастерьях. Об акцизе; о контрабанде забывали тоже.
Все тише сновали меж столами официанты. Двумя пальцами несли подносы — не звякнуть бы! не сбить! Утих Вавилон.
— Огнем на плясунье сверкают мониста, Шалеет рука на гитарных ладах, Дороге вовек не бывать каменистой, Но где-то — беда…
На эстраде, вокруг эстрады, прямо на полу, застелив его буйным разноцветьем юбок и шаровар, расселся «Яшкин хор». Знаменитейший. Ай, чявалэ! Знать, не нашлось сегодня богатого кутежа, куда б звали вас, черноголовые! Ну и ладно. Сам Яшка, ром исполинского роста, в чьих руках гитара казалась смешной детской забавкой, притулился у края, седеющей копной волос — к ногам певицы.
Плакал старый бродяга.
Катились слезы, застревали в морщинах.
— Как прежде, наотмашь, как раньше, азартно, Продам, и куплю, и по новой продам!
Мерцает слюда на изломе базальта, Но где-то — беда…
Федор смотрел, как Княгиня мельком, походя берет публику за горло, и понимал: мастерица. Умеет. Скорее всего ничем из мажьих штучек она сейчас не пользовалась, просто пела ни для кого, и в этом уже пряталось свое волшебство.
Возможно, стократ древнейшее, нежели любое иное «эфирное воздействие». Даже самому Федору вдруг остро захотелось грохнуть кулаком по столу, выкрикнуть что-то вроде «Эх! одно-ва живем!» — и пустить слезу.
А грохнуть — не получалось.
Струилось по залу тихим огнем:
— И жизнь не прошла, и сирень не опала, И воздух весною пьянит, как всегда, И в вечере плещется млечность опала, Но где-то — беда…
Смолкали дачники. Прекращали свои вечные, как суета сует, разговоры о многочисленных хворях-болезнях. О целебных свойствах раннего кизила и амулетов из халцедона. О политике. Об искусстве. О племяннице Грушеньке, которую замуж не берут, а если и берут, то фармазоны всякие.
Понуро клали головы на кулаки инкерманские виноделы. Глаза жмурили. Забывали о ценах на ординарный шато-икем и золотистый токай. О поставках. О безруких скотах-подмастерьях. Об акцизе; о контрабанде забывали тоже.
Все тише сновали меж столами официанты. Двумя пальцами несли подносы — не звякнуть бы! не сбить! Утих Вавилон.
— Огнем на плясунье сверкают мониста, Шалеет рука на гитарных ладах, Дороге вовек не бывать каменистой, Но где-то — беда…
На эстраде, вокруг эстрады, прямо на полу, застелив его буйным разноцветьем юбок и шаровар, расселся «Яшкин хор». Знаменитейший. Ай, чявалэ! Знать, не нашлось сегодня богатого кутежа, куда б звали вас, черноголовые! Ну и ладно. Сам Яшка, ром исполинского роста, в чьих руках гитара казалась смешной детской забавкой, притулился у края, седеющей копной волос — к ногам певицы.
Плакал старый бродяга.
Катились слезы, застревали в морщинах.
— Как прежде, наотмашь, как раньше, азартно, Продам, и куплю, и по новой продам!
Мерцает слюда на изломе базальта, Но где-то — беда…
Федор смотрел, как Княгиня мельком, походя берет публику за горло, и понимал: мастерица. Умеет. Скорее всего ничем из мажьих штучек она сейчас не пользовалась, просто пела ни для кого, и в этом уже пряталось свое волшебство.
Возможно, стократ древнейшее, нежели любое иное «эфирное воздействие». Даже самому Федору вдруг остро захотелось грохнуть кулаком по столу, выкрикнуть что-то вроде «Эх! одно-ва живем!» — и пустить слезу.
А грохнуть — не получалось.