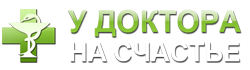dok34.ru
Moderator
Ехать отдыхать мои родители должны были со своими друзьями, Олей и Толей. Оля была вертлявая, немного косоглазая, причем косила в основном в сторону чужих мужей. Толя старательно не замечал или, по крайней мере, делал вид, что не замечает. Он был большой умница, интеллектуал с искрометным чувством юмора. Папе тоже было что сказать, поэтому их диалоги превращались в остроумную пикировку, на которую можно было легко продавать билеты и, возможно, даже окупить всю поездку.
Рядом с базой «Ленэнерго» было два пляжа: общий, слегка облагороженный парой облупленных скамеек и благоухающим неподалеку общественным туалетом, и дикий, известный только местной публике и туристам, возвращающимся ежесезонно, как перелетные птицы, на одно и то же насиженное, а точнее, належанное место.
На общем было шумно. Торговцы чурчхелой нанизывали ее на нитки, перекидывали через плечо, чтобы гроздья висели на их загорелых торсах, как патронташи. Женщины, все в черном, будто в вечном трауре, разносили вареную кукурузу, густо посыпанную солью, с капающим на песок растопленным сливочным маслом. На каменной набережной сидели джигиты, взглядами шлифуя шелушащиеся красные тела курортниц, смачно цокая языками вслед очередной даме с формами и без, отчего даже самые добродетельные матери семейств начинали активнее вращать сдобными бедрами и поправлять лопающийся на груди лифчик.
Дикий пляж был поменьше, расположен чуть в отдалении и интересен в первую очередь для любителей подводного плавания среди скал. Его-то родители и облюбовали: пусть каменистый, зато народу меньше и можно спокойно понырять и почитать, не отвлекаясь на местное население, раздающее дешевые комплименты даром, а молодое «Псоу» и кислую «Хванчкару» – за деньги.
* * *
Папа потом и сам не мог понять, что его дернуло в то утро, но он решил напугать маму, которая расположилась на каменистом пляже, нацепив на нос кусок газеты с многообещающими словами: «…хуй товарища», что в оригинале было частью невинной передовицы о шахтерах «Подстрахуй товарища в его нелегком труде».
Папа надел ласты, маску и, повернувшись обтянутым трикотажем задом к морю, зашлепал к воде. Фигура у него была совершенно великолепная. Оля, делая вид, что увлечена повестью из журнала «Нева», уже рисковала получить не временное, а перманентное косоглазие. Мама, казалось, ничего не замечала.
Папа, прощально взмахнув рукой, нырнул, и над его головой плотно сомкнулось Черное море. Вода сначала закипела, как кастрюля с картошкой, а потом ее как будто выключили, и через несколько булек наступил полный штиль.
Мама продолжала читать журнал. Через некоторое время она посмотрела на море, потом перевела взгляд на Толю, который зачем-то подошел к воде и тоже напряженно всматривался в лазурную гладь. Над головами орали бакланы, вдалеке гудел как улей общий пляж. Но на этом маленьком отрезке
суши стояла мертвая тишина. Волны ласкали гальку. Шаловливо откатывались, опять протягивали мокрые щупальца, затаскивая мелкие камешки и шлифуя те, которые оставались лежать на берегу.
Мама в тревоге вскочила на ноги и дрожащим голосом позвала папу. Море презрительно шлепнуло в ответ очередную волну и с достоинством откатилось.
Мама, приложив ладонь к глазам, пыталась рассмотреть хоть какие-то признаки жизни на безмолвной глади, но так ничего и не увидела. И тогда она заметалась. На ее отчаянные крики слетелись не только чайки, но и обгоревшие пляжники.
Кто-то с трагическими интонациями в голосе стал рассказывать, что в этом же месте в прошлом году утонул чемпион мира по плаванию и про какие-то подводные течения. Другой умник добавил, что даже если найдут тело, то перевезти утопленника будет невозможно без специального разрешения.
При этих словах мама рухнула на гальку в полубессознательном состоянии.
* * *
А папа и правда ничего не слышал – он ставил рекорды по подводному плаванию.
Вдохнув полную грудь воздуха, он плыл под водой больше минуты. Затем на секунду поднимался, как кит, на поверхность, чтобы через трубку вдохнуть немного воздуха, и уходил опять на глубину.
Выплыв минут через двадцать у дальних скал, он снял ласты и направился уже по берегу к месту, где оставил маму в компании Оли и Толи. И тут он услышал крики о помощи, со всех сторон бежали люди. На берегу лежала без движения женщина в знакомом до боли
купальнике и, кажется, уже не шевелилась, а над ней склонились скорбные отдыхающие, и кто-то уже пытался делать искусственное дыхание.
Папа похолодел. Побросав наловленных в камнях крабов, в три прыжка очутился у тела.
На подкашивающихся ногах он приблизился к лежащей на гальке маме.
Какой-то дочерна загорелый южанин излишне рьяно делал дыхание рот в рот и массаж сердца. При этом он, видимо, полагал, что сердце находится и справа, и слева, потому что его ладони покоились сразу на обеих маминых грудях. Отшвырнув спасителя, папа склонился над телом и белыми от ужаса губами прошептал мамино имя.
То ли помогли реанимационные мероприятия усатого добровольца, то ли мамино подсознание уловило почти беззвучный шепот, но она открыла мутные от слез глаза и уставилась на полумертвого от ужаса папу. И тут она завыла и вцепилась в его тогда еще кудрявые волосы.
Бедный мой папа даже не почувствовал боли, он решил, что его любимая Верочка от долгого пребывания под водой лишилась рассудка, и диким голосом завопил:
– Скорую!
Не дожидаясь, пока кто-то добежит до телефона и наберет «ноль три», он схватил маму на руки и дикими прыжками понесся в сторону дороги по огромным мокрым прибрежным валунам.
Мама отбивалась и кричала что-то про то, как папа утонул и она его бросилась спасать, как русалочка – принца из сказки Андерсена.
Папа, услышав, что его назвали принцем, ускорился. И тут его нога соскользнула, и он полетел вперед. Поскольку руки у него были
заняты мамой, он со всей дури саданулся лбом об острый угол камня.
Падение отрезвило обоих.
Папино лицо немедленно залилось кровью. Ткнув пальцем в лоб, чтобы проверить глубину раны, промахнувшись и не почувствовав дна, он не нашел ничего умнее, чем спросить:
– Мозг виден? – и рухнул в обморок.
Мама в очередной раз осела рядом.
Немедленно подскочил южанин и привычно приладил руки на маминых грудях. Но тут, к счастью, подоспела скорая. Погрузили незадачливых утопленников и понеслись в город. В пути разобрались, кто утопленник, а кто спасающий, причем мама пришла в себя настолько, что сказала папе, что если бы он не упал, то она бы ему голову сама проломила.
По дороге подобрали роженицу и мальчика с переломом ноги и наконец причалили к дверям местной больнички. Ввалились в мрачный приемный покой, как с поля боя: папа с окровавленным полотенцем на голове и плачущим мальчиком в руках и полуголая мама, поддерживающая роженицу, которая то и дело принималась голосить.
Их встретил фельдшер со следами вчерашнего веселья на лице, повел мутными глазами справа налево и, сумев наконец сконцентрировать взгляд в одной точке, выдал на голубом пьяном глазу:
Налево нас – рать, направо нас – рать
Е… – битвою мать Россия спасена!
Для папы это было лучше любого обезболивающего.
Рядом с базой «Ленэнерго» было два пляжа: общий, слегка облагороженный парой облупленных скамеек и благоухающим неподалеку общественным туалетом, и дикий, известный только местной публике и туристам, возвращающимся ежесезонно, как перелетные птицы, на одно и то же насиженное, а точнее, належанное место.
На общем было шумно. Торговцы чурчхелой нанизывали ее на нитки, перекидывали через плечо, чтобы гроздья висели на их загорелых торсах, как патронташи. Женщины, все в черном, будто в вечном трауре, разносили вареную кукурузу, густо посыпанную солью, с капающим на песок растопленным сливочным маслом. На каменной набережной сидели джигиты, взглядами шлифуя шелушащиеся красные тела курортниц, смачно цокая языками вслед очередной даме с формами и без, отчего даже самые добродетельные матери семейств начинали активнее вращать сдобными бедрами и поправлять лопающийся на груди лифчик.
Дикий пляж был поменьше, расположен чуть в отдалении и интересен в первую очередь для любителей подводного плавания среди скал. Его-то родители и облюбовали: пусть каменистый, зато народу меньше и можно спокойно понырять и почитать, не отвлекаясь на местное население, раздающее дешевые комплименты даром, а молодое «Псоу» и кислую «Хванчкару» – за деньги.
* * *
Папа потом и сам не мог понять, что его дернуло в то утро, но он решил напугать маму, которая расположилась на каменистом пляже, нацепив на нос кусок газеты с многообещающими словами: «…хуй товарища», что в оригинале было частью невинной передовицы о шахтерах «Подстрахуй товарища в его нелегком труде».
Папа надел ласты, маску и, повернувшись обтянутым трикотажем задом к морю, зашлепал к воде. Фигура у него была совершенно великолепная. Оля, делая вид, что увлечена повестью из журнала «Нева», уже рисковала получить не временное, а перманентное косоглазие. Мама, казалось, ничего не замечала.
Папа, прощально взмахнув рукой, нырнул, и над его головой плотно сомкнулось Черное море. Вода сначала закипела, как кастрюля с картошкой, а потом ее как будто выключили, и через несколько булек наступил полный штиль.
Мама продолжала читать журнал. Через некоторое время она посмотрела на море, потом перевела взгляд на Толю, который зачем-то подошел к воде и тоже напряженно всматривался в лазурную гладь. Над головами орали бакланы, вдалеке гудел как улей общий пляж. Но на этом маленьком отрезке
суши стояла мертвая тишина. Волны ласкали гальку. Шаловливо откатывались, опять протягивали мокрые щупальца, затаскивая мелкие камешки и шлифуя те, которые оставались лежать на берегу.
Мама в тревоге вскочила на ноги и дрожащим голосом позвала папу. Море презрительно шлепнуло в ответ очередную волну и с достоинством откатилось.
Мама, приложив ладонь к глазам, пыталась рассмотреть хоть какие-то признаки жизни на безмолвной глади, но так ничего и не увидела. И тогда она заметалась. На ее отчаянные крики слетелись не только чайки, но и обгоревшие пляжники.
Кто-то с трагическими интонациями в голосе стал рассказывать, что в этом же месте в прошлом году утонул чемпион мира по плаванию и про какие-то подводные течения. Другой умник добавил, что даже если найдут тело, то перевезти утопленника будет невозможно без специального разрешения.
При этих словах мама рухнула на гальку в полубессознательном состоянии.
* * *
А папа и правда ничего не слышал – он ставил рекорды по подводному плаванию.
Вдохнув полную грудь воздуха, он плыл под водой больше минуты. Затем на секунду поднимался, как кит, на поверхность, чтобы через трубку вдохнуть немного воздуха, и уходил опять на глубину.
Выплыв минут через двадцать у дальних скал, он снял ласты и направился уже по берегу к месту, где оставил маму в компании Оли и Толи. И тут он услышал крики о помощи, со всех сторон бежали люди. На берегу лежала без движения женщина в знакомом до боли
купальнике и, кажется, уже не шевелилась, а над ней склонились скорбные отдыхающие, и кто-то уже пытался делать искусственное дыхание.
Папа похолодел. Побросав наловленных в камнях крабов, в три прыжка очутился у тела.
На подкашивающихся ногах он приблизился к лежащей на гальке маме.
Какой-то дочерна загорелый южанин излишне рьяно делал дыхание рот в рот и массаж сердца. При этом он, видимо, полагал, что сердце находится и справа, и слева, потому что его ладони покоились сразу на обеих маминых грудях. Отшвырнув спасителя, папа склонился над телом и белыми от ужаса губами прошептал мамино имя.
То ли помогли реанимационные мероприятия усатого добровольца, то ли мамино подсознание уловило почти беззвучный шепот, но она открыла мутные от слез глаза и уставилась на полумертвого от ужаса папу. И тут она завыла и вцепилась в его тогда еще кудрявые волосы.
Бедный мой папа даже не почувствовал боли, он решил, что его любимая Верочка от долгого пребывания под водой лишилась рассудка, и диким голосом завопил:
– Скорую!
Не дожидаясь, пока кто-то добежит до телефона и наберет «ноль три», он схватил маму на руки и дикими прыжками понесся в сторону дороги по огромным мокрым прибрежным валунам.
Мама отбивалась и кричала что-то про то, как папа утонул и она его бросилась спасать, как русалочка – принца из сказки Андерсена.
Папа, услышав, что его назвали принцем, ускорился. И тут его нога соскользнула, и он полетел вперед. Поскольку руки у него были
заняты мамой, он со всей дури саданулся лбом об острый угол камня.
Падение отрезвило обоих.
Папино лицо немедленно залилось кровью. Ткнув пальцем в лоб, чтобы проверить глубину раны, промахнувшись и не почувствовав дна, он не нашел ничего умнее, чем спросить:
– Мозг виден? – и рухнул в обморок.
Мама в очередной раз осела рядом.
Немедленно подскочил южанин и привычно приладил руки на маминых грудях. Но тут, к счастью, подоспела скорая. Погрузили незадачливых утопленников и понеслись в город. В пути разобрались, кто утопленник, а кто спасающий, причем мама пришла в себя настолько, что сказала папе, что если бы он не упал, то она бы ему голову сама проломила.
По дороге подобрали роженицу и мальчика с переломом ноги и наконец причалили к дверям местной больнички. Ввалились в мрачный приемный покой, как с поля боя: папа с окровавленным полотенцем на голове и плачущим мальчиком в руках и полуголая мама, поддерживающая роженицу, которая то и дело принималась голосить.
Их встретил фельдшер со следами вчерашнего веселья на лице, повел мутными глазами справа налево и, сумев наконец сконцентрировать взгляд в одной точке, выдал на голубом пьяном глазу:
Налево нас – рать, направо нас – рать
Е… – битвою мать Россия спасена!
Для папы это было лучше любого обезболивающего.