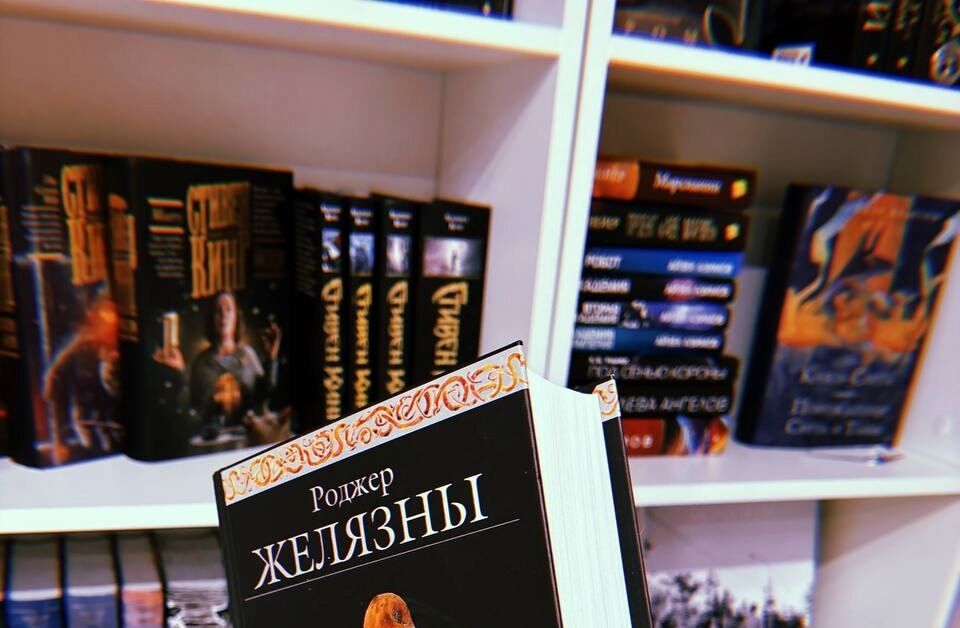dok34.ru
Moderator
"Фантастика – это не столько литература. Те же детективы гораздо ближе к классической литературе с их детально выверенным сюжетом, психологизмом, расстановкой действующих лиц, яркими образами. У фантастов это тоже встречается, но для них главное – образ будущего или тень неизведанного. Пускай тот же Ефремов страдает, как стилист, образы у него плосковатые, язык порой труден, но образ будущего в «Туманности» завораживает. Это гениальное произведение, оно звучит, как слаженный симфонический оркестр – мощно, напористо, пробирая до печенок. У Стругацких будущее светлое, теплое, приятное, оно льется старым добрым джазом. Сейчас в чести тяжелый металл – но это в лучшем случае. А больше ария заморского гостя в исполнении лучших басов медицинских вытрезвителей.
Размежевание между этими школами прошло именно по пониманию образа будущего. Ленинградцы, в душе по большей части неполживые питерские интеллигенты – по традиции либералы и антисоветчики, писали мрачновато, но талантливо. И будущее у них выглядело угрюмо, но ярко, в стиле – мы все умрем, мы все виноваты. Молодогвардейцы, школа Ефремова, писали о коммунистическом грядущем, с литературными дарованиями у них было похуже, поэтому это будущее у них получалось светлое, радужное, но до безобразия скучное и пресное. Перчику к этой ситуации добавляло открытое противостояние между Стругацкими, которые отстаивали социальную фанастику, требовали безжалостно вскрывать язвы общества со всей строгостью перестроечного «Огонька», и Казанцевым, который все задвигал про коммунистическое послезавтра, аномальные явления, гигантские стройки коммунизма. Кто был прав в споре? Стругацкие обвиняли Казанцева в многословии, неумении писать, ставить насущные проблемы. В чем-то они были правы - Казанцев уступал им по литературному уровню. Но в своей нише он был все же большой писатель, призывавший людей изучать тайны космоса, строить подводные города, он поражал воображение статуэтками инопланетян Догу, взрывом чужого корабля над тайгой. Он будил романтиков, инженеров, строителей. А Стругацкие с каждой книгой замыкались в мизантропии и пессимизме, придавали своим книгам тройной смысл, мало кому понятный, а возможно и вообще его не было. Так что размежевание между школами было размежеванием в оценке образа будущего."
Размежевание между этими школами прошло именно по пониманию образа будущего. Ленинградцы, в душе по большей части неполживые питерские интеллигенты – по традиции либералы и антисоветчики, писали мрачновато, но талантливо. И будущее у них выглядело угрюмо, но ярко, в стиле – мы все умрем, мы все виноваты. Молодогвардейцы, школа Ефремова, писали о коммунистическом грядущем, с литературными дарованиями у них было похуже, поэтому это будущее у них получалось светлое, радужное, но до безобразия скучное и пресное. Перчику к этой ситуации добавляло открытое противостояние между Стругацкими, которые отстаивали социальную фанастику, требовали безжалостно вскрывать язвы общества со всей строгостью перестроечного «Огонька», и Казанцевым, который все задвигал про коммунистическое послезавтра, аномальные явления, гигантские стройки коммунизма. Кто был прав в споре? Стругацкие обвиняли Казанцева в многословии, неумении писать, ставить насущные проблемы. В чем-то они были правы - Казанцев уступал им по литературному уровню. Но в своей нише он был все же большой писатель, призывавший людей изучать тайны космоса, строить подводные города, он поражал воображение статуэтками инопланетян Догу, взрывом чужого корабля над тайгой. Он будил романтиков, инженеров, строителей. А Стругацкие с каждой книгой замыкались в мизантропии и пессимизме, придавали своим книгам тройной смысл, мало кому понятный, а возможно и вообще его не было. Так что размежевание между школами было размежеванием в оценке образа будущего."