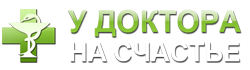(Пролог)
...Февральская оттепель, ночь... Шепчутся капли, с глухим стуком падают талые комья...
..Я знаю, знаю, КТО ТЫ — но боюсь называть...
...Спешу, страшно спешу, и вот доспешился до того, что... Странно, все может кончиться в любое мгновение — все и кончится через мгновение — но страшен не сам конец, а то, что я не успею — конечно же не успею! — отдать ТЕБЕ и тысячной доли своих богатств — ведь они ТВОИ... Вселенные во мне, океаны, бездны памятей и скорбей — неужто же лишь пылинки праха... неужто развеется в опустошении...
Горстка времени, ничего больше? Вечность? Зачем?
О, кто бы мне подсказал, как распорядиться, как выкроить этот остаток...
(Черновик рукописи, фрагмент)
В день и час... (зачеркнуто)... пусть это будет 6 июня (...) года, 21.35 по московскому, пускай так — в означенный, стало быть, день и час, с которого мы начинаем повествование, Эго находился в квартире, записанной на имя известного психотерапевта, ученого, писателя, лауреата какой-то премии, президента чего-то, руководителя того и сего, члена обществ, комиссий, редколлегий и прочая, скончавшегося минуту назад.
(На полях карандашом: Смахивает на начало дешевого детектива. «Эго» — всего лишь «я»?.. Неправда. Создание, мне неведомое. Душа).
С разных ракурсов эпизод этот уже дважды являлся в предутренних сновидениях, и в одном была эта непременная муха, льнущая, неизгонимая муха, черт знает откуда возникающая, если уж конец или скоро... Даже в операционных, среди зимы...
Умерший сидел за столом.
Грех жаловаться, далеко не всякому везет так вот, не шелохнувшись, впечататься в небытие. Тихой ледяной молнией обняла тело смерть: лопнул магистральный сосуд, все центры мозга отключились единогласно. Так можно вырубиться невзначай и где-нибудь на концерте, и...
(Плотно зачеркнуто. На полях: «Хорошенькая психотерапия для мнительных. А ведь так, как я, филигранно щадить нервишки читателя вряд ли кто... читателя знаю подробнее, чем...»)
Неоперабельная аневризма. Никак иначе.
Но вот ошибка. (На полях: «Всякая ошибка есть неиспользованная свобода»). Это должно было произойти в другом месте, не здесь. Не за этим столом.
Стараясь не смотреть, Эго приблизился.
Венецианский шедевр в стиле то ли позднего барокко, то ли раннего рококо (покойник всегда их позорно путал), львинолапый красавец в золотистом литье — такой стол мебелью не назовешь, это уже существо. Дух изысканно-живой, беззаботный, пьющий на брудершафт с вечностью, сотворил это произведение руками неведомого мастера — и теперь звонко протестовал. Что такое, вопрошал он, к чему эта буфетная скоропостижность? Мне оскорбительно давление мертвой плоти, я и так многое претерпел.
Теперь уже не узнать, какими путями прикочевал в скудный дом этот ссыльный аристократ. Гнутые ореховые ноги уже лет шестьдесят взывали о скорой помощи; грудастые бронзовые рожицы побурели; врезная, цвета спелой маслины, кожа столешницы... (неразборчиво) царапинами и вмятинами, кое-где вспухла; на черной тисненой кайме зиял шрам, выжженный сигаретой. Так увековечил себя приятель (нрзбр) с подружкой...
(Вычеркнутая страница. На полях: «К... бабушке этот домашний пейзаж. Обрыдлое логово полухолостяка. Только дети что-то замечают, а взрослые ни черта, хоть и озирают все. Действует не обстановка, а дух.)
Умерший сидел — как и был застигнут, в рабочем кресле. Рука — вжата в недописанный лист.
Взгляд уходящих не мигает.
Разминования путей бескрылый ум не постигает.
Судьба не разожмет когтей и душу, легкую добычу,
Ввысь унесет, за облака, а кости вниз,
Таков обычай и человеческий, и птичий,
Пришедший к нам издалека...
Морозное поле, стоячая стынь. По меньшей мере, за тридцать метров... Иной толстокожий и не ощутит, но, принагнувшись в прощании...
Отойти,- отойти. Поваляться еще немного на скрипучей розовощекой тахте. Вынестись за пределы клетки... Можно не подниматься, снаружи все выучено назубок.
Безгоризонтное городское пространство. Балконы, оскаленные бельем. Две лежачие башни — окно в окно. Каждый вечер там, в гнездышке, что смотрит прямо тебе в пуп, какой-то в майке и какая-то в зеленом халатике — несколько деловитых передвижений — полотенце — крем или что там — да, там, в каюте напротив...
Распружинившись, Эго прыгнул на ковер, сделал стойку, на руках подошел к столу и, возвернувшись на ноги, глянул через окаменелое плечо на бумаги.
— Можно вас попросить... Убрать лапку?..
Не среагировал.
Эго нагнулся, ухватил ножки кресла и отодвинул его от стола с седоком вместе, насколько смог.
В освободившемся пространстве осталась мутнобелесая аура. Отдунув ее несколькими энергичными выдохами — она нехотя, как дым трубочный, поползла не в ту сторону — и не обращая более внимания на фантом, Эго придвинул к столу вращающийся фортепианный стульчик, уселся и принялся читать.
Осенних строчек ломкий хворост, озноб, озноб... Горят слова, и рвется мысли тетива, и сердце набирает скорость. Лети, неведомая повесть, в глубины памяти стремись, стрелой в полете распрямись, настраивай, как скрипку, совесть, и пусть несовершенный не в звуки верует, а в дух,
и строчка выпорхнет, как птица, и ложь невольная простится...
Давал зарок, что никогда
не напишу воспоминаний,
не стану продавцом стыда.
Но есть и праздники признаний,
не взлом по ордеру, но взгляд,
каким при вскрытии глядят
на сердце — может быть, забьется...
Но это редко удается.
— О ком же это... Позвольте спросить? — Эго обернулся.
Кресло было пусто.
Закат заваливался за крыши; город, не знающий зари, готовился зажечь собственную, ущербную. Все на месте было внизу — полувсамделишные деревья, попытки газона, встрепанная песочница, кучка ребятишек и пенсионеров, общественная собачонка. Уже третий вечер подряд у подъезда с настойчивой флегматичностью стояла карета скорой помощи. «Останови-те му-зы-ку!»,— умолял чей-то осипший магнитофон.
Что ж, пора. Свободные полеты в пространстве с этого мига становятся не передвижением, а лишь изменением состояния. Еще там, в плену, при переходе с восьмой на седьмую ступень ограниченности стало ясно, что время никуда не идет, что это мы временимся из-за неполноты нашей любвеспособности. Полномерная любовь перепрыгивает через время как девочка через скакалочку.